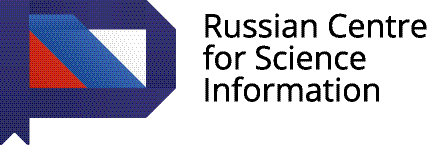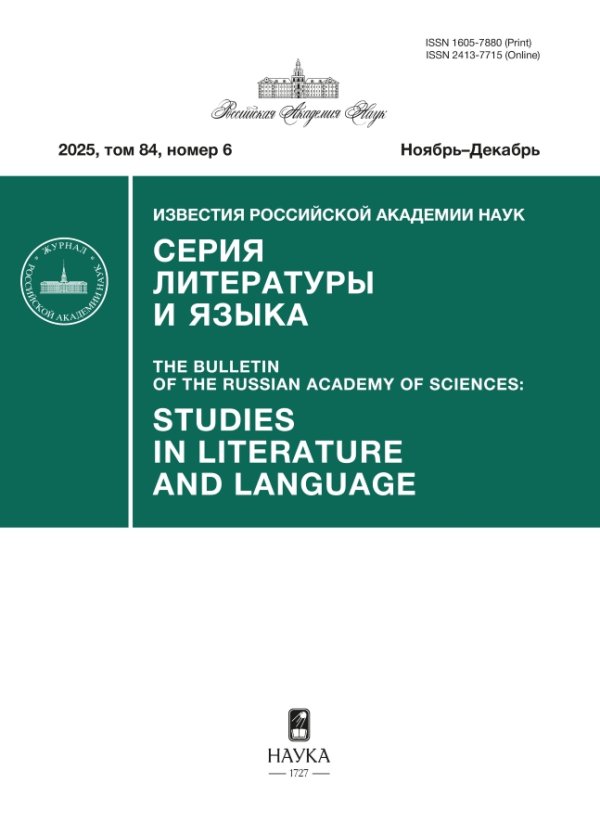“Dreams” by A. N. Maykov as the pretext of “The Dream of a ridiculous man” by F. M. Dostoevsky
- Authors: Krinitsyn А.B.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 84, No 1 (2025)
- Pages: 33-43
- Section: Articles
- URL: https://ogarev-online.ru/1605-7880/article/view/289228
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788025010031
- ID: 289228
Full Text
Abstract
The article analyzes in detail the problems of the poem by A.N. Maykov “Dreams”, taking into account the multiplicity of its interpretations and relying on the wide background of its literary and philosophical pretexts (Dante, Benyan, Pushkin). Separately, allusions in the poem to Platoʼs “State” are revealed and the influence of Platoʼs ideas on Maykovʼs historiosophy is traced. In the second part of the work, it is substantiated that the poem “Dreams” was one of the most important sources for Dostoevsky when he wrote the fantastic story “The Dream of a Ridiculous Man”, based on the common imagery and problematics in both works: in both cases, at the moment of a spiritual crisis, the hero has a fantastic dream in which he is shown the stages of the spiritual development of mankind, from the state of paradise to the fallen. Spiritual discoveries made in dreams lead both times to the spiritual resurrection of the hero, explain to him the fate of the world and the truth of life. When comparing Maykovʼs Dreams and The Dream of a Ridiculous Man, the question of the possible influence of Platoʼs ideas on Dostoevsky also arises. Gloomy, cold St. Petersburg, in which the “ridiculous man” languishes, in its ideological and artistic significance is likened to Plato’s cave, where only a reflection of the true light and only shadows from the omnipotent eternal sun, which for Plato and Dostoevsky both means God.
Full Text
Поэма А.Н. Майкова «Сны» (1859) представляет собой многоплановую философско-идеологическую аллегорию, крайне редкую для русской литературной традиции (см.: [1]). Посвящение сыну знаменует собой, что автор вложил в нее нечто крайне важное для себя – познание пути духовного становления и спасения человечества. Прозаической параллелью данному тексту является «Сон смешного человека» (1876) Ф.М. Достоевского, сходный по замыслу, форме и содержанию – в обоих случаях в момент духовного кризиса герою снится фантастический сон, в котором ему явлены этапы духовного развития человечества, от райского состояния до падшего. Сей сон ведет к духовному воскресению героя, раскрывает ему судьбы мира и истину жизни. Это позволяет видеть в «Снах» претекст к рассказу Достоевского, а предполагаемая нами смысловая взаимосвязанность произведений – лучше понять каждое из них. Поэма Майкова крайне мало освещена в отечественном литературоведении (см.: [2]), во многом в силу сложности своего идеологического содержания.
А.Н. Майков был одним из ближайших друзей и единомышленников Достоевского, являлся важным литературным сотрудником братьев Достоевских в их журналах «Время» и «Эпоха», и то, что писатель хорошо был знаком с поэмой «Сны», наделавшей много шуму в обществе (она – одно из немногих произведений Майкова на политические темы, сильно сокращенное цензурой1), не подвергается сомнению. Тем более, что поначалу у нее было посвящение сосланным петрашевцам, что отмечал Л.С. Гейро в примечаниях к поэме:
После стиха 20 в черновом наброске посвящения карандашом записаны строки, позволяющие предполагать, что первоначально оно было адресовано друзьям поэта из кружка М.В. Буташевича-Петрашевского, и в первую очередь, по-видимому, Ф.М. Достоевскому:
Друзья минувших лет! [которым солнце светит]
Вы все, которых жизнь, иль смерть, или изгнанье
Сурово вырвали из дружного кружка.
Как за цветком цветок из светлого венка, –
Вы все – где б ни были! быть может, песня эта
Кого-нибудь найдет – в ней исповедь поэта! [3, с. 874]
В сокращенной цензурой части был отрывок, прямо намекающий на юношу-мечтателя, ни за что обвиненного в заговоре и сосланного на каторгу:
Пред нами скованных колодников вели.
Солдаты с ружьями вкруг их сурово шли,
<...>
Меж зверских лиц один пленил меня красой
И взглядом женственным, и я, скорбя душой,
«За что ж, – спросил я, – ты страдаешь, отрок милый?» –
«О, юности моей потерянные силы!
<...>
Воскликнул он. – Я был почти еще дитя,
Почти по слухам знал отечества я раны,
И – дети – строили безумные мы планы!
Но в детском лепете был слышен правды глас, –
И вот – с злодеями сравняли казнью нас!» [3, с. 777–778]
Поэма Майкова построена на литературных параллелях с Данте (о чем свидетельствует посвящение «суровому Данту» в черновых набросках [3, с. 874]), а также с «Паломником» Джона Беньяна, где странничество героя аллегорически являет собой путь к Богу и спасению души. Паломник покидает дом и близких и, по указанию принявшего человеческий вид ангела, отправляется вдаль вслед за путеводным светом истины на горизонте и после многих мытарств и препятствий (таких как гора гордости, болото сомнения и т.д.) достигает святого града – небесного Иерусалима. Характерно, что для «Снов» Майков избирает размер и строфику «Странника» Пушкина (дистихи шестистопного ямба), являющегося стихотворным переложением первой главы «Паломника» Беньяна. Вместе с тем, образ главного героя продолжает традиции русской романтической поэмы [4].
Начинается поэма с рассказа героя о своем детстве в отчем доме, который описан идиллически, как некий райский уголок: он стоит над рекой, окруженный большим садом; в нем обитает большая семья, «благословенная Богом», объединенная как любовью, так и служением искусству (здесь очевидным образом сказались автобиографические мотивы). Отец-художник постоянно трудится в своей мастерской, а старший сын – главный герой – становится поэтом. Возмужав, он покидает родной кров, мотивируя свое решение несколько туманно и неоднозначно: то тем, что он чувствует наступление нового времени, когда во всем мире «поднялась борьба добра и зла», в которой он жаждет «закалить свой дух», то тем, что его «дар гибнет здесь в глуши» и зовет его к «иному поприщу».
В пути выясняется, что герой «ищет истины, идет туда, где свет» (чем опять-таки уподобляется Паломнику Беньяна). Однако страницей ранее он говорил матери, что избран Богом, дабы в момент крушения старого мира провозвестить наступление нового [3, с. 764–765]. Таким образом, он, с одной стороны, оказывается юнцом, взыскующим истину, а с другой – ощущает в себе призвание стать пророком, освещающим путь людям, на что дает ему право его поэтический дар. Вспомним, впрочем, что именно таково самопозиционирование Данте в «Божественной комедии» (выступавшего в роли слабого смертного перед высшими силами, смиренного ученика перед Вергилием и Беатриче и в то же время избранного глашатая открывшихся ему тайн божественного мироустройства перед остальным человечеством). Увлечению Майкова Данте способствовали его итальянские впечатления [5].
Однако, в отличие от Данте, герой Майкова, хоть и покидает отчий дом, путешествует в основном виртуально и все испытания переживает во снах, привидевшихся ему по дороге. К снам относится и его встреча с таинственным вожатым, подобным дантовскому Вергилию2. Этот избыточный, казалось бы, прием ввода аллегорически-условного сюжета позволяет обосновать свободное движение героя не только в пространственных, но и во временных пределах, и потому был впоследствии так же востребован Достоевским в «Сне смешного человека».
Герою поэмы снятся города-государства, наподобие греческих полисов: им намеренно придан античный колорит, чтобы притушить, хотя бы для цензуры, конкретные ассоциации с современностью. Целью Майкова является изображение двух разных систем правления: фактического безвластия, а затем власти с присущими ей пороками. Благодаря символической обобщенности полисов их можно понимать и как некие этапы развития человечества.
Античный колорит городов восходит, на наш взгляд, к диалогу «Государство» Платона, где также рисуются в обобщенной форме различные типы государственных устройств в их влиянии на нравственно-духовное состояние общества. Косвенным свидетельством о увлеченности Майкова идеями Платона является аллегорическое описание героем своего духовного состояния как узничества в подземелье, куда доносятся лишь отголоски мира, что почти в точности воспроизводит знаменитую притчу о пещере из «Государства» – о людях, способных на земле созерцать только тени вечных идей:
И каждое ловил я огненное слово,
И жаждал искусить свой дух в борьбе суровой...
Так в замке, на скале, на дне сырой тюрьмы,
Вдруг слышно узнику среди глубокой тьмы,
Что с моря выстрелы несутся боевые,
<...>
И, проклиная цепь, он плачет от тоски... [3, с. 764]
В первом сне герой Майкова летит за своим вожатым по ночному небу, пока не попадает в «обширный град» с дворцами и храмами (черты античности совмещены в нем с некоторыми чертами последующих эпох: храмы иногда именуются церквями). Город ввергнут в состояние анархии беснующейся толпой, уничтожающей священные сосуды и произведения искусства, совершающей беззаконные убийства и насилия3. Присутствуют и апокалиптические мотивы: толпа поклоняется, как царице, «обнаженной до чресл» жене, напоминающей вавилонскую блудницу, возглашая: «Раздайтесь! Се Любви богиня, Мать-Природа!» [3, с. 769].
Проведена Майковым и ассоциация с французской революцией: у предводителей толпы фригийские красные колпаки, они провозглашают идеал безграничной свободы, оскверняют храмы. На площади сжигают куклу в царских регалиях, что напоминает казнь короля и его семьи в 1792 году4. Одновременно лозунги повторяют идеи нового времени – материализма и атеизма:
У ног кумира сонм жрецов стеной стоял
И в пламенных речах собранью возглашал:
«Возрадуйтесь! Конец насильству и работе:
Мы мир преобразить грядем во имя плоти!» [3, с. 764]
Если проецировать данную картину беснования на творчество Достоевского, то многими деталями сей смятенный полис напоминает апокалиптический сон Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания», но еще более – страшную смуту мировой революции, о которой грезит Петр Верховенский в «Бесах»:
– Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. <...> Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. <...> ...одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь – вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык. <...> Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... <...> Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... [6, т. 10, с. 325].
Однако изображенное Майковым рисует не столько момент революционного мятежа, сколько некое перманентное состояние «диктатуры народа», и многие мотивы сближают смятенный полис с изображением «демократии» в диалоге Платона «Государство». Дело в том, что, выстраивая свою идеальную модель государственного правления, называемую монархией, Платон отталкивается от существующих порочных, распределяя их по степени испорченности: тимократия, олигархия, демократия и тирания, каждая из которых логически переходит в последующую. Так, совершенно в духе Платона оказывается рассуждение Шигалева о том, что абсолютная свобода («демократия») неизбежно оборачивается абсолютным деспотизмом (то есть тиранией).
Демократия в описании Платона «осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей» [7, с. 403–404]. Характеризует этот строй отсутствие законов, гражданских и воинских обязанностей, вообще – необходимости подчиняться властям: «В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют. <...> И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову» [7, с. 408].
При каждом из правлений, по Платону, доминирует одна из трех сторон человеческой натуры: при монархии – «разум» (дух), при тимократии – «гнев» (воля), при олигархии и демократии – «вожделения» (желания удовольствий), с той разницей, что при олигархии вожделения еще сочетаются с волевым началом и способствуют достижению личностью глобальных целей (почетного места в обществе), но честь уже не самоцель, а средство для удовлетворения вожделений, в то время как при демократии вожделения подавляют волю и требуют немедленного удовлетворения. Более того, они прославляются на государственном уровне. Народные вожди поселяют в души граждан «с большим блеском, в сопровождении многочисленного хора, наглость, разнузданность и распутство, увенчивая их венками и прославляя в смягченных выражениях: наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность – свободою, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством» [7, с. 409].
Таким образом, Платон резко негативно оценивает «демократию», потакающую порокам и страстям толпы и извращающую саму идею государства. «Свобода» объявляется высшей ценностью, но на самом деле становится манипулятивным понятием («В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе» [7, с. 411]), а затем ее культ неизбежно ведет к общество к худшему устроению – тирании (свобода, которую «…определяет как благо демократия и к чему она ненасытно стремится, именно это ее и разрушает»: «такое ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании» [7, с. 412]).
Каждая государственная система соответствует устроению человеческой души на определенном этапе ее близости Богу или деградации. Поэтому описания общественных устройств сопровождаются у Платона портретами и историями формирования соответствующих типов личности: тимократического, олигархического, демократического человека и тирана. Это совершенно укладывается в идейно-художественный замысел «Снов» Майкова: странствуя во сне от полиса к полису, герой не просто наблюдает его устройство, но невольно смешивается с его жителями и проходит этот опыт как этап становления своей собственной личности. Он полностью перевоплощается в жителя беснующегося полиса, может быть только что совершившего убийство («И я гляжу – на мне одежды не мои! / Я тронул их рукой – смотрю, рука в крови» ([3, с. 768]). Однако он никогда не оставляет свою роль певца как глашатая и «пророка», и всякий раз ему предлагается роль очевидца, прославляющего все наблюдаемое.
Равным образом и его таинственный Вожатый перевоплощается то в косматого вожака толпы, то в верховного жреца, верховодящего кощунствами в храме. Можно предположить, что вожатый – это воплощение духа героя, ведущего его путем развития, но всякий раз остающегося в своей эволюции непонятным пока для сознания героя. Он принимает самые разные формы, иногда пугающие, но в итоге всегда спасает героя.
Свидетельствуют о платоновском подтексте второй песни «снов» и некоторые конкретные мотивы. Так, у Майкова толпа, опьяненная вседозволенностью, обожествляет, во имя свободы, именно вожделение: она воздает царские почести блуднице («Раздайтесь! Се Любви богиня, Мать-Природа!»). Кроме того, в храме воздвигается кумир сатира как обожествление похоти («Весь храм сиял огнями. / От верху до низу, как в цирке, ступенями, / Шел помост, как цветник, толпой мужей и жен / Пестрея. Посреди был идол водружен – Сатир, при хохоте вакханки богомерзкой, / Срывающий покров с весталки лапой дерзкой. У ног кумира сонм жрецов стеной стоял…» [3, с. 769])5.
Упоминаемая Майковым нарядная пестрота толпы также отсылает к платоновской характеристике демократии: «Словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, многие подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он лучше всех» [7, с. 405].
Соответственно Платону, Майков указывает, что демократия неизбежно предвещает тиранию: «Мой спутник тихо мне: “Сегодня кончен бой / За власть. Наутро же подымется другой”» [3, с. 770].
С Вожатым свершается новая метаморфоза: он становится верховным жрецом в храме идола и, подав поэту золотую лиру, призывает его воспеть новое божество, обещая славу («Воззвал ко мне: “Певец! Вот наше божество! – / На идол указав. – Воспой же нам его!”»), однако герой отшатывается, в ужасе взглянув на «любострастного сатира»:
«Свобода, – я вскричал, – не пир, не рабство крови,
А духа торжество и благодать любови!
От сердца песнь моя; а сердцем чужд я вам
И гимна не спою разнузданным страстям!» [3, с. 770].
Сразу же Вожатый принимает прежний благородный облик и спасает героя, спасает его от разъяренной толпы, поскольку герой благополучно выдержал искус страстями и «безграничной свободой». Тем самым подкрепляется наша гипотеза, что Вожатый олицетворяет собой духовное начало героя, подобно даймону Сократа, и одновременно его поэтический гений (равно как для Данте в «Божественной комедии» Вергилий был вдохновителем – недосягаемым гением всех времен, а Беатриче – небесной музой).
Затем герой, вновь пронесясь над «бездной туманной», оказывается в мирном, процветающем городе с мудрым, как солнце, царем («Явился царь. Как лев, спокоен был он, тих; / Как солнце он сиял средь подданных своих» [3, с. 773]). Сравнение царя с солнцем опять приводит нас к платоновскому диалогу «Государство», где в шестой главе дано обстоятельное рассуждение о том, что есть благо, и оно объясняется через сравнение с всё пронизывающим солнечным светом, источником которого является само «солнце», то есть Бог. Созерцать его воочию способны, по Платону, одни лишь философы, которые и должны быть правителями его идеального государства. Поскольку идеальным правлением для Платона была монархия, то солярные мотивы в образе царя оправданы и закономерны. Учреждения и институты правления города имеют античный антураж, уподобляющие его греческому полису: на фронтонах зданий герой читает надписи «Алтарь отечества», «Храм наук», «Храм торговли», «Пантеон гражданских доблестей и дел воинской славы».
Майков, убежденный монархист, был вполне согласен с превознесением монархии Платоном. Однако далее он вскрывает губительные пороки правления в сем граде, неведомые для мудрого царя. Все читатели и слушатели поэмы увидели в этой части критику современного Майкову российского правления. Именно эта часть и была значительно сокращена цензурой. Просители идут к царю с жалобами на самоуправство и чиновников, но тщетно («…Мы рвемся все к царю! / Да свечи за него мы ставим к алтарю! / Он – вечный труженик, он строг и мудр, мы знаем, – / Но путь до истины ему недосягаем. / <...> / И царство от царя и царь от царства скрыты» [3, с. 775]). Порок поражает все большие области жизни. Наравне с воровством чиновников обличается притеснение науки, ибо для подавляющего числа молодежи недоступно образование. («Наука сражена была здесь клеветою. / “Наука – это бунт!” – твердили в слух царя... / Коснулся дерзкий лом ее уж алтаря» [3, с. 776]). Встреча с осужденными на каторгу юными вольнодумцами (намек на петрашевцев) говорит и о воспрещении свободной мысли.
Таинственный Вожатый принимает на сей раз обличье отчаявшегося старика, которого пустил по миру неправедный суд, и призывает героя спасаться бегством под угрозой гибели, ведь «несчастье ближнего прилипчивей чумы». Поэт решает, что град оставлен Богом и отдан во власть дьяволу, и, одержимый внезапным страхом, покидает его вместе со спутником почти в беспамятстве:
Я падал, я стонал, а он вопил: «Беги!» –
Как будто гнали нас незримые враги.
Вот город кончился, вот поле вкруг глухое,
А всё в ушах «беги!» звенело роковое,
«Беги!». Но скоро я упал, изнеможен,
Вцепяся в спутника, но гневно рвался он...
<...>
Но миг – и вырвался вожатый мой и скрылся...
Широкий горизонт вкруг мраком обложился...
В тупом бессмыслии глядел я, как исчез
Последний лоскуток лазуревых небес…
И показалось мне, что Бог во глубь эфира
Уходит, отвратя лицо свое от мира,
А сумрачный Князь Тьмы, с тиарой на челе,
Победно шествует владыкой по земле. [3, с. 778–779]
Вместе с тем, для читателя очевидно, что никакая опасность поэту не грозила, да и город далеко не так плох, как предыдущий, чтобы бежать из него в таком ужасе. Таким образом, само бегство оказывается на сей раз соблазном и помрачением.
Итак, опять имеет место уподобление героя своему духовному вожатому, который ведет его, подвергая искушениям. Схема весьма причудлива. Принимая вид одного из горожан и переживая изнутри беды и пороки страны, Вожатый призывает сделать то же и ведомого им поэта, и только по прошествии испытания становится ясен его первоначальный замысел. Всякий раз наличествует полная душевная вовлеченность поэта в жизнь города, включая его пороки, что, однако, в первом случае не равно духовной. Во втором случае герой поддается ужасу и бежит из города (и спутник не принимает первоначального облика, а просто исчезает). Как это можно истолковать?
Во-первых, можно истолковать данный сюжет как полемику с Платоном: вполне принимая платоновскую критику демократии, Майков тем не менее вряд ли был согласен с его моделью идеального государства, откуда деспотически изгонялось свободное искусство и устанавливался строгий контроль над умами и воспитанием граждан (углубление в науки и философию полагалось у Платона лишь высшим слоям, и то дозированно). Неслучайно первоначальное восхищение городом сменяется у поэта отторжением и бегством из него. Второе объяснение может быть в том, что, принимая монархию как идеальную форму правления, Майков видел, что Россия еще далека от ее благополучного воплощения (нет связи между царем и народом). Мытарства поэта свидетельствуют, что автор равным образом злостным искушением считал как смену монархии демократией, так и бегство из страны в ужасе от ее пороков.
В качестве наказания за невыдержанное второе искушение поэт испытывает тяжелый духовный кризис: отчаяние, неверие и скептицизм:
С тех пор прошли года... Обманут верой страстной,
Я в жизни изнемог... Сбылся мой сон ужасный!..
Повсюду пламенным мечтам моим в ответ
В судьбах народов я читал: «Надежды нет!» [3, с. 779].
Но спутник на самом деле невидимо остается с героем, направляя его в новое странствие, которое завершается третьим, всеразрешающим сном, в котором разговор с поэтом ведет уже его Муза – в полном соответствии с Беатриче, возведшей Данте до рая. С высоты небес поэт видит, как те самые города, которые он считал погибшими «от беззакония, слепотства и разврата», теперь «блистают и цветут», в них царит счастье, гармония и «святая тишина». Наконец, Муза «поднимает» перед ним «покров с великой тайны», объясняя итоговую истину жизни, к которой сводится весь смысл поэмы: герой был «слеп», поразившись прежними картинами зла и разочаровавшись в человечестве: «Пред человечеством глубоко грешен ты»; «Из жизни мира ты единый видел миг: / Его не обнял ты и смысла не проник!» [3, с. 781]. Но «человечества таинственный удел» не измеряется пределами одной «жизни смертного». Муза вещает поэту о том, что существует Божий промысел о человечестве, направляющий его «к свету шагом твердым». На этом пути страсти и зло есть поучительное попущение, необходимый элемент для духовного возмужания: «И зло в руке творца есть жезл вождя железный, / Вам указующий на пропасти и бездны» [3, с. 782]. Поэтому «в самом в нем [человечестве] сила есть, врачующая зло» [3, с. 783]. Человечество в конце концов придет к совершенству (об этом свидетельствует и его молитвенный гимн к Богу финале). Определяется роль в мировом процессе и самого поэта. Будучи неразрывно слит с судьбой всего человечества, он, как малая капля, отражает в себе и в своем опыте его судьбу.
«Из малых капель слит могучий океан:
Так с человечеством, о смертный, ты слиян!
Ты – часть его, ты – луч единого светила!
Твой жребий с ним один, в тебе одна с ним сила»!
<...>
И пусть из царства зорь, из мира благовоний,
И вечной юности, и света, и гармоний
На землю падает святая песнь твоя,
Как в знойный день роса, свежащая поля,
Как лучшей жизни весть, как пенье вольной птицы,
Мелькнувшей узнику в отверстии темницы
[3, с. 783–784].
Таким образом, в ответе на вопрошания героя снова явственно звучат платоновские мотивы: в уподоблении героя всему человечеству (как Платон делал путь государства прообразом духовного пути восхождения каждого человека к божественному первоистоку, сравниваемому с солнцем), с той только разницей, что у Платона в чистый мир вечных идей способен подыматься философ, а у Майкова – поэт (в чем отразилось воздействие на автора поэмы идей романтизма с его культом искусства). Но показательно, что земное существование опять сравнивается с пребыванием в темнице, куда к узнику способна долетать лишь весть из «подлинного» мира вечной красоты и гармонии (возвращаясь к символу знаменитой платоновской пещеры).
В конце поэмы герой возвращается «к себе», в прежний дом – рай детства, обретает заново семью и свое место на Земле, что и становится последним этапом его духовного становления.
Достоевскому должна была быть близка мысль о единстве каждого со всем человечеством («все за всех виноваты» – как он сформулирует ту же идею в «Преступлении и наказании»), а также мысль о необходимости и неизбежности страдания для духовного познания и счастья (в поэме эта мысль особенно акцентируется в последних строках, когда мать встречает вернувшегося героя со словами: «На горе ты рожден... но тем и мил ты мне!» [3, с. 784]).
* * *
В «Сне смешного человека» находим тот же набор мотивов, только в немного иной констелляции и последовательности.
При активном человеческом и интеллектуальном общении Достоевского и Майкова неизбежно сближались их литературно-эстетические и идеологические позиции [8], что мы можем наблюдать хотя бы на примере поэмы Майкова «Странник». Интерес Достоевского к фантастическим романтическим поэмам замечается на протяжении всего его творчества: вспомним хотя бы «крамольную» поэму Степана Трофимовича Верховенского (пародию на поэму В.С. Печерина «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь») или поэму-мистерию Ивана Карамазова о Христе и Великом инквизиторе. Равным образом постоянно оставалось актуальным для Достоевского использование символических снов, которые играют большую роль в идейной системе «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых» (см.: [9, с. 143, 144, 154]).
В аллегорических фантастических сюжетах Достоевский пытался выразить свое эсхатологическое мироощущение. В его «пятикнижии» многие герои живут в преддверии нового мира, считают, что их идеи могут «мир перевернуть». Отсюда темы Апокалипсиса [10]. Сходным умонастроением обусловлен сюжет поэмы Майкова.
Наличествуют и очевидные сюжетные аналогии. Как мы уже формулировали в начале статьи, «духовная жажда» побуждает обоих героев к пути, аллегорически обозначающему поиск истины, но этот путь совершается в фантастическом сне. Сюжет пути трансформируется во сне в образ полета в «околомирном» космическом, темном пространстве между жизнью и смертью, в сопровождении ниспосланного свыше таинственного проводника.
Я смутно понимал, что вождь мой спас меня. И он исчез. И тут от скорби и смятенья Я стал переходить в холодное забвенье. Лишь чувствовал, что мрак вокруг меня густел, Сырой, ужасный мрак... и я летел, летел... [3, с. 772]. | Я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. <...> Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось всё так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце [6, т. 25, с. 111]. |
Однако путь духовного опыта у «смешного человека» строится зеркально противоположно: детство и юность у него протекали безрадостно, и в отсутствии близости к людям он приходит к намерению свести счеты с жизнью. В момент окончательной решимости ему снится сон о путешествии-полете на Землю до грехопадения. Таким образом, ему сначала предстает райская гармония. Как и герой Майкова, «смешной человек» входит в круг людей явленного ему мира, радостно живет их жизнью. Слияние заходит так далеко, что герой Достоевского сам оказывается причиной разрушения своего же идеала («Я… развратил их всех!» [6, т. 25, с. 115]). Далее во сне «смешной человек» переживает быструю деградацию мира до современного ему состояния, мучительно переживает свою вину и понимает главное: он в ответе перед всеми и должен сделать все для ее исправления.
Поэт Майкова, в свою очередь, приходит к отчаянью и скептицизму после первого и второго сна, чтобы вновь утешиться созерцанием воцарившейся гармонии в третьем. Таким образом, у обоих героев перемежаются в разной последовательности одни и те же состояния – кризиса и душевного умиротворения / возрождения. И у Майкова, и у Достоевского используется принцип контраста между внутренним состоянием героя и предстающим ему видением – ужасным в случае умиротворенности или идиллическим в случае отчаяния. В дальнейшем состояние героев и миров меняются на диаметрально противоположные.
В обоих произведениях герой обозревает человечество в падшем и идеальном состоянии и после этого может иначе взглянуть на историю человечества и осознать кризис современности как некую ступень, как диалектический этап в движении к будущему, наконец, полюбить человечество, воссоединиться с ним и с Богом, а заодно переосмыслить себя и свою собственную жизнь. По мнению К.А. Степаняна, «главная истина, узнанная “смешным человеком”, заключается в том, что “люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на Земле”» [11, с. 241] (ср.: [6, т. 25, с. 118]).
Третий сон поэта, являющий счастливые города, представляет почти полную параллель посещению «смешным человеком» Земли до грехопадения. Поскольку в обоих произведениях путешествие во сне лишь внешне совершается в пространстве, а на самом деле оказывается перемещением во времени, явленные здесь картины это одновременно и рай, и земная жизнь. Сравним античный колорит земного рая у Достоевского с античными по виду полисами у Майкова, а также с райским колоритом последнего сна:
Долина чудная открылась предо мной, Сады цветут вдоль гор, алеющих зарей; Озера розовым вдали сияют блеском, И воды нежат слух, как арфы, звучным плеском. Прохладный ветерок на голову и грудь Порхнул мне, и едва я им успел дохнуть… [3, с. 780]. | Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви [6, т. 25, с. 112]. |
И у Майкова, и у Достоевского духовный путь человечества представлен в виде триады эпох: райское блаженство – падение – восстановление райской гармонии на новом уровне (cм. [12]).
Первым шагом к ее достижению в мировом масштабе становится обретение гармонии в душе обоих героев, благодаря осмыслению нынешнего состояния мира в контексте развернутой перед ними тео- и антроподицеи. В завершение «Сна смешного человека» возвращение героя «домой» в то же время оказывается началом нового, духовного пути – «к людям», ради их объединения и спасения: «И пойду, и пойду!» [6, т. 25, с. 119].
При сопоставлении «Снов» Майкова и «Сна смешного человека» встает и более серьезный вопрос – о возможном влиянии на Достоевского идей Платона. Важные аналогии творчества Достоевского с Платоном были уже рассмотрены В.В. Дудкиным, которым была, в частности, проведена аналогия между картиной Земного рая, куда попадают души после смерти, в диалоге «Федон» и картинами Земли до грехопадения в «Сне смешного человека» [13, с. 208–209]. Общность мотивов «Сна смешного человека» и «Снов» Майкова позволяет привлечь также материал диалога «Государство». Мрачный, холодный Петербург, в котором томится «смешной человек», по своему идейно-художественному значению уподобляется платоновской пещере. Отдаленной вестью об истинном, вечном и счастливом мире в Петербурге для «смешного человека» оказывается светящая сквозь разрывы туч звездочка, к которой герой летит во сне, чтобы увидеть ее солнцем, обливающим своими лучами преображенную Землю и людей – «детей своего солнца». Равным образом в притче о пещере людям, томящимся в ней, виден только отблеск истинного света и лишь тени от всесильного вечного солнца, которое и у Платона, и у Достоевского обозначает Бога. Символ пещеры соотносится также со сквозным для всего творчества Достоевского символом подполья. Хотя лексема подполья и не фигурирует прямо в «Сне смешного человека», однако само подполье генетически производно от хронотопа Петербурга, а сам «смешной человек» имеет ярко выраженные «подпольные черты», сближающие его с Парадоксалистом из «Записок из подполья».
Прозрение во сне сближает «смешного человека» с истинным философом обрисованном Платоном в «Государстве» (см.: [14]). Таковыми Платон признает «тех, кто любит усматривать истину» [7, с. 301]. «Смешной человек» с самого начала рассказа делом провозглашает, что он «узнал истину» («…я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, <...> и с того времени я каждое мгновение мое помню» [6, т. 25, с. 106]). Стремление к истине и непрекращающиеся попытки узреть ее в мысленном созерцании вообще свойственны героям-идеологам позднего творчества Достоевского6.
Душе философа, в описании Платона, «предназначено вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности. <...> ...ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия» [7, с. 313]. Так и «смешной человек» охватывает во сне всю структуру мироздания, равно как и всю историю человечества. Наконец, немногие избранные, знающие истину, по мнению Платона, неизбежно кажутся смешными людьми непросвещенной толпе: «кто устремился к философии <...> потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства» [7, с. 315].
Платоновские идеи и образы могли быть восприняты Достоевским как напрямую, так и опосредованно, через знакомство с поэмой Майкова и обсуждение ее с самим другом-поэтом.
Выводы. Сделанные наблюдения позволяют говорить о поэме Майкова «Сны» как об еще одном важном источнике «Сна смешного человека» (на основании общности в обоих произведениях сюжетных элементов и проблематики), а также увидеть новые смыслы «Сна смешного человека» в контексте европейской и античной литературной традиции, с которой связаны «Сны» Майкова.
При сопоставлении «Снов» Майкова и «Сна смешного человека» встает и более глобальный вопрос – о влиянии на Достоевского идей Платона. Вслед за Платоном Майков и Достоевский рисуют проект идеального государства, выполняющего высшее предназначение пути человека к Богу. Подобное построение общества достижимо лишь при истинно духовном состоянии человечества, но в современном, падшем мире может формироваться как структура вокруг тех, кто заново открыл Истину. Антитезою такому государству становится «подполье» Петербурга, в котором томится «смешной человек», уподобляющееся платоновской пещере, где, как отдаленная весть об истинном мире, виден только отблеск света всесильного, вечного Солнца, которое и у Платона, и у Достоевского обозначает Бога.
1 Впервые поэма была опубликована в «Русском слове» (1859. № 1) с цензурными купюрами (выпущено 122 стиха в «песни третьей», от слов: «В народе, вижу я, схватили старика» и до слов: «Как будто гнали нас незримые враги»).
2 Подобно тому как Данте встречает своего Вергилия «в сумрачном лесу», герой «Снов» встречает своего таинственного вожатого на символическом горном обрыве.
3 «Вбежали в город мы. Дома одни горят, / Другие грудою дымящейся лежат; / Повсюду битвы след. Размещены дороги, / Об мертвых, что ни шаг, то путаются ноги…» [3, с. 768].
4 «Церковной утвари расплавленный металл / С костра горящими ручьями ниспадал. / На куклу вздев венец и царские доспехи, / Ее повергли в огнь при сатанинском смехе» [3, с. 769].
5 Здесь и далее в цитатах полужирным шрифтом даются мои выделения (А.К.), а курсивом – выделения автора цитируемого текста.
6 Вспомним хотя бы Ивана Карамазова, которому «не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» [6, т. 14, с. 76], а также истолкование Достоевским картины Крамского «Созерцатель» [6, т. 14, с. 116–117], которое можно считать описанием процесса зарождения идеи из созерцания у героев-идеологов «пятикнижия».
About the authors
А. B. Krinitsyn
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: derselbe@list.ru
ORCID iD: 0000-0003-0262-5058
Doct. Sci. (Philol.), Professor at the Faculty of Philology
Russian Federation, 1 Bld. 51 Leninskie Gory, Moscow, 119991References
- Merezhkovskiy, D.S. A.N. Majkov [A.N. Majkov]. Filosofskie techeniya russkoj poezii [Philosophical Currents of Russian Poetry]. St. Petersburg, 1896, pp. 317–335. (In Russ.)
- Zubkov, M.N. Russkaya poema serediny XIX veka [Russian Poem of the Middle of the 19th Century]. Moscow: Prosveshcheniye Publ., 1967. 216 p. (In Russ.)
- Maykov, A.N. Izbrannye proizvedeniya [Selected Works]. Compiled, prepared. text and notes L.S. Geiro; entry article by F.Ya. Priyma. Leningrad: Sovetskij pisatel Publ., 1977. 910 p. (In Russ.)
- Sokolov, A.N. Lermontov i russkaya romanticheskaya poema [Lermontov and the Russian Romantic Poem]. Uchenyje zapiski MOPI [Scientific Notes of MOPI]. 1949, Vol. 13, Issue 1, pp. 86–128. (In Russ.)
- Lyapina, L.E. Italyanskie vpechatleniya A. Maykova [Italian Impressions of A. Maykov]. Zhanrovo-stilevoe vzaimodejstvie liriki i eposa v russkoj literature XVIII–XIX vv. [Genre-Style Interaction of Lyrics and Epic in Russian Literature of the 18th–19th Centuries]. Moscow: MOPI Publ., 1986, pp. 124–140. (In Russ.)
- Dostoyevsky, F.M. Polnoye sobraniye sochinenij v 30 t. [Complete Works in 30 Vols.]. Leningrad: Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
- Plato. Gosudarstvo [The State]. Transl. by A.N. Egunov. Plato. Sochineniya v 4 t. [Works in 4 Vols]. Vol. 3. Part 1. Under the general editorship of A.F. Losev and V.F. Asmus. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, Publishing house of Oleg Abyshko, 2007, pp. 97–494. (In Russ.)
- Buranok, N.A. Literaturnaya pozitsiya A.N. Maykova v seredine XIX veka [Literary Position of A.N. Maykov in the Middle of the 19th Century]. Aktualnye voprosy izucheniya i prepodavaniya russkoj literatury v vuze i shkole [Topical Issues of Studying and Teaching Russian Literature at the University and School]. Yaroslavl, 2004, pp. 44–46. (In Russ.)
- Neychev, N. Tainstvennaya poetika F.M. Dostoevskogo [Mysterious Poetics of F.M. Dostoevsky]. Ekaterinburg: Ural University Publ., 2010. 314 p. (In Russ.)
- Foyer-Miller, R. “Son smeshnogo cheloveka” Dostoevskogo: Popytka opredeleniya zhanra [Dostoevskyʼs Dream of a Ridiculous Man: An Attempt to Define a Genre]. Dostoevskij i mirovaya kultura [Dostoevsky and World Culture: an Almanac]. St. Petersburg, Moscow, 2004, No. 20, pp. 148–169. (In Russ.)
- Stepanyan, K.A. Ideal u Dostoevskogo i Shekspira [Ideal in Dostoevsky and Shakespeare]. Stepanyan K.A. Shekspir, Bahtin i Dostoevskij: geroi i avtory v bolshom vremeni [Shakespeare, Bakhtin and Dostoevsky: Heroes and Authors in Big Time]. Moscow: Global Kom; Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2016, pp. 226–260. (In Russ.)
- Kasatkina, T.A. Kratkaya polnaya istoriya chelovechestva: (“Son smeshnogo cheloveka” F.M. Dostoevskogo) [A Brief Complete History of Humanity: (“The Dream of a Ridiculous Man” by F.M. Dostoevsky)]. Dostoevskiy i mirovaya kultura [Dostoevsky and World Culture: an Almanac]. St. Petersburg, 1993, No. 1, Part 1, pp. 48–69. (In Russ.)
- Dudkin, V.V. Dostoevskiy i Platon [Dostoevsky and Plato]. Dostoevskiy i antichnost [Dostoevsky and Antiquity]. St. Petersburg: RHGA Publ., 2021, pp. 206–213. (In Russ.)
- Garicheva, E.А. Dialogicheskaya model mira v rasskaze F.M. Dostoevskogo “Son smeshnogo cheloveka” [Dialogical Model of the World in F. M. Dostoevsky’s Story “The Dream of a Ridiculous Man”]. Dostoevskij i sovremennost. Materials of the XVII International Readings in Staraya Russa 2002 [Dostoevsky and Modernity: Materials of the 17th International Readings in Staraya Russa in 2002]. Velikiy Novgorod, 2003, pp. 28–33. (In Russ.)