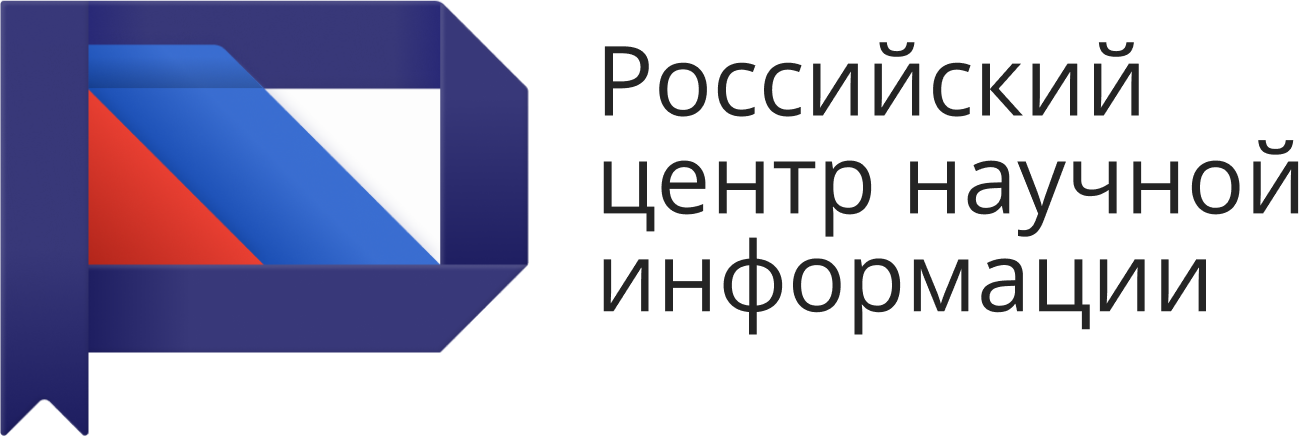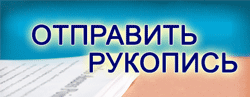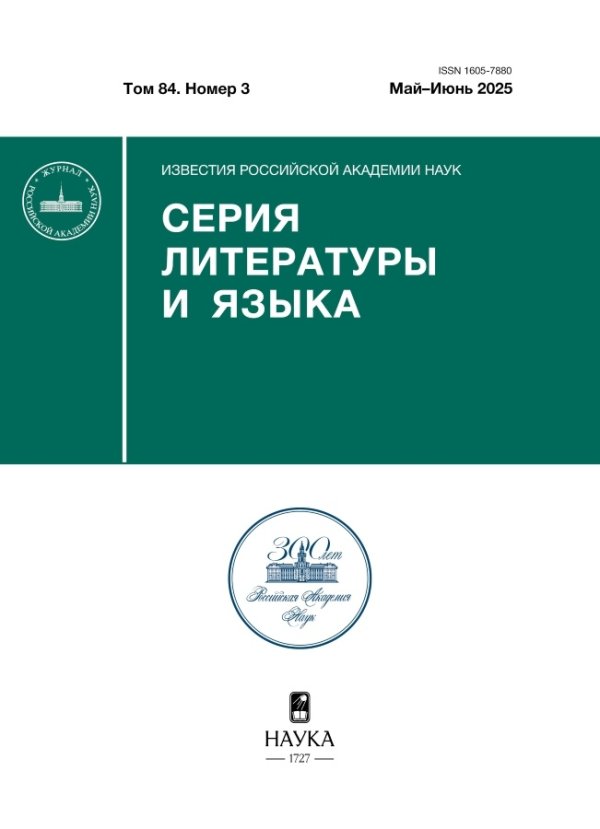Проводник в потусторонность: претексты В. Ф. Ходасевича в русскоязычном творчестве В. В. Набокова
- Авторы: Леденёв А.В.1,2, Коржова И.Н.3
-
Учреждения:
- Университет МГУ-ППИ
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
- Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
- Выпуск: Том 83, № 6 (2024)
- Страницы: 81-88
- Раздел: Статьи
- URL: https://ogarev-online.ru/1605-7880/article/view/272411
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024060074
- ID: 272411
Полный текст
Аннотация
В статье исследованы аллюзии и текстуальные заимствования в прозе В.В. Набокова, источником которых выступает поэзия В.Ф. Ходасевича. Внимание сосредоточено на тех заимствованиях, которые связаны с оформлением идеи потусторонности. Поскольку оба писателя развернуто не декларировали своих философских взглядов, выявление онтологической природы второй реальности в их произведениях затруднено. Но очевидно, что оба делают предметом изображения возможность иного, более гармоничного измерения бытия. В целом, у Ходасевича его достижение возможно при выходе за пределы видимого мира, а у Набокова – при субъективной трансформации реальности. Показано, что «текстильная» метафора потусторонности как скрытого узора или изнанки жизни могла быть подсказана Набокову стихотворением Ходасевича «Без слов». Прослежены переклички при реализации мотивов смерти-полета, трансформирующего отражения в зеркальной поверхности, трансценденции и др. Особое внимание уделено преломлению сквозного сюжета о душе из книги Ходасевича «Тяжелая лира» в романе В.В. Набокова «Приглашение на казнь».
Ключевые слова
Полный текст
В 1927 г. В.В. Набоков откликнулся положительным отзывом на выход «Собрания стихов» В.Ф. Ходасевича – книги, которой было суждено стать последней перед закатным поэтическим безмолвием автора. И если последующий мировой успех Набокова сделал упоминание об этом лестным скорее для Ходасевича, то в момент выхода рецензии соотношение репутаций, да и сил была иной. Поэт несколько снисходительно принял это известие и писал Ю.И. Айхенвальду: «Еще – просьба. Некто (тот же) обещал мне дать статью Сирина обо мне, но не дал, затерял ее. Так вот – нельзя ли ее получить? Я бы написал Сирину, да не знаю его имени и отчества, а спросить в “Современных Записках” систематически забываю. Так я и эту статью не читал, а, говорят, – лестная. Вот мне и любопытно» [1, с. 221].
Последующие 12 лет укрепят интерес писателей друг другу, сделают их творческий и личный интерес взаимным. Ходасевич наиболее последовательно будет защищать Набокова и первым определит, что при исследовании формо-содержательного единства произведений начинающего прозаика требуется делать акцент на первой части: «При тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу художником формы, писательского приема, и не только в том общеизвестном и общепризнанном смысле, что формальная сторона его писаний отличается исключительным разнообразием, сложностью, блеском и новизной. <…> Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, – но напротив: Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину» [2, с. 222]. Набоков в следующий раз выскажется в печати о Ходасевиче уже в некрологе. Но, главное, не изменит своего суждения: «крупнейший поэт нашего времени» [3, т. 5, с. 587] и спустя годы: «великий поэт» [4, с. 198], «величайший русский поэт, какого доселе породил XX век» [5, с. 44].
Вопрос о творческом влиянии Ходасевича на Набокова впервые был затронут Ю.И. Левиным, в послесловии к большой статье о стихах Ходасевича указавшим на Набокова как на одного из продолжателей линии поэта [6, c. 267]. Ряд аллюзий на творчество Ходасевича фиксируют комментаторы пятитомного собрания русскоязычных сочинений Набокова [3]. Анализируя роман «Дар», герой которого, поэт Кончеев, имеет одним из своих прообразов, несомненно главных, Ходасевича, А. Долинин не просто отмечает текстуальные переклички, но и раскрывает сходство эстетических установок писателей [7]. Л.В. Сыроватко [8] обратилась к той же теме, но выбрала в качестве материала не теоретические высказывания, а изображение творческого акта обоими авторами, второй сюжет ее исследования составил образ ангелов как проводников к инобытию.
Однако число творческих схождений и даже прямых обращений Набокова к претекстам Ходасевича столь велико, что исследование этого вопроса остается перспективным. Не надеясь исчерпать вопрос, мы обратимся в статье к выявлению некоторых интертекстуальных аспектов, связанных со способами изображения потусторонности, инобытия. В качестве материала будут взяты прозаические произведения Набокова как наиболее самобытная часть его наследия.
В уже упоминавшейся рецензии 1927 г. Набоков говорит, что Ходасевич поэт для тех, «кто может наслаждаться поэтом, не пошаривая в его “мировоззрении” и не требуя от него откликов, собрание стихов Ходасевича – восхитительное произведение искусства» [3, т. 2, с. 652–653]. Вообще, в первом отклике на стихи Ходасевича Набоков придает ему собственное, чуть показное равнодушие к метафизике и морали. Однако его поэзия, особенно стихотворения книги «Тяжелая лира», запечатлевает порыв, а порой и прорыв за грань земного бытия; целомудренно умалчивая о сущности внеземного, демонстрирует стремление к нему. Иное дело, что, не пойдя по пути символизма, Ходасевич не был погружен ни в религиозные поиски старших символистов, ни в создание жизнетворческих мифов младших. Высказывание Набокова об элиминировании мировоззренческих вопросов из стихов Ходасевича вдвойне парадоксально. Концепция души, не совпадающей с «я» человека, его личностью, воплотившаяся в «Тяжелой лире», несомненно не является просто устойчивым поэтизмом. Кроме того, сам Набоков не чуждался темы проникновения за покров земной реальности. И в реализации этой темы открытия Ходасевича, выработанные им способы проговаривания о неземном станут плодотворными для Набокова.
Неоклассик Ходасевич сумел соединить лексическую и подчас синтаксическую архаизацию стиха с современнейшим содержанием. Городской топос в его произведениях – воплощение разъятого, дисгармоничного мира, реже место благодатного примирения с действительностью (в «Европейской ночи» уже невозможного). Городская среда – сфера дробящейся, рассыпающейся реальности. Она разбита на осколки в отражениях на мокром асфальте, в витринах, зеркалах, стеклах трамваев. Показательно, что в первой рецензии Набоков отметил это качество художественного мира Ходасевича: «Очень интересен в творчестве Ходасевича некий оптическо-аптекарско-химическо-анатомический налет на многих его стихах. <…> К той же оптической области относятся многочисленные упоминания отражений в зеркале, в оконном стекле и т.д.» [3, т. 2, с. 652]. Мир Набокова также множится в зеркалах и просто на глади мокрых улиц, но эти отражения не столько разрушают цельность мира, сколько выдвигают сам мотив удвоения, преломления реальности.
В рассказе «Путеводитель по Берлину» аллюзивный пласт включает сразу несколько стихотворений Ходасевича. Но прежде всего оно полемично стихотворению «Берлинское». Место действия обоих произведений – берлинская пивная, откуда открывается вид на город с пересекающими его трамваями. С образом города сопряжен мотив подводного мира. У Ходасевича подводное царство становится способом остранить берлинскую повседневность:
А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом –
Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб [9, с. 258].
Герой Набокова действительно посещает Зоологический сад и его отделение рыб, виды которого под пером автора делаются еще более экзотичными: «В полутемной зале ряды озаренных витрин по бокам похожи на те оконца, сквозь которые капитан Немо глядел из своей подводной лодки на морские существа, вьющиеся между развалин Атлантиды. За этими витринами, в сияющих углублениях, скользят, вспыхивая плавниками, прозрачные рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит живая пурпурная звезда о пяти концах» [10, т. 1, с. 339].
В пекаре, осыпанном мукой, рассказчик находит «что-то ангельское» [10, т. 1, с. 338], и такое видение отсылает нас к стихотворению Ходасевича «Хлебы» из книги «Путем зерна», в которой гармония еще могла быть обретена, в которой сам автор заклинал: «Преобразись, / Смоленский рынок!» [9, с. 156], но в эмигрантских циклах преображение стало невозможным.
Оба произведения заканчиваются обретением внешней пространственной точки зрения по отношению к самому себе. И оба портрета вполне вписываются в заданную атмосферу. У Ходасевича возможность увидеть себя реализована благодаря трамвайному стеклу: возникшая ужасающая картина включает и героя в мир мертвой обыденности:
И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола, –
И проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою [9, с. 258].
Герой Набокова тоже проникает в «жизнь чужую», но, надо заметить, это именно жизнь, и погружение в нее возможно благодаря таланту вживания, растворения в другом. Он видит комнату глазами ребенка и включает себя в чужое будущее воспоминание, тем самым как бы преодолевая время. Отметим, что в переводе рассказа отраженный в глазах ребенка портрет намекает на пережитую драму: “He will remember the billiard table and the coat-less evening visitor who used to draw back his sharp white elbow and hit the ball with his cue, and the blue-gray cigar smoke, and the din of voices, and my empty right sleeve and scarred face, and his father behind the bar, filling a mug for me from the tap” [11, p. 98]. Пустой рукав и шрам отсутствовали в русскоязычном оригинале. Но мертвое и живое как конечное заключение о мире здесь обозначают важное расхождение авторов.
C преодолением земной ущербности у Ходасевича связан образ полета, причем в ряде стихотворений это мнимый, кажущийся полет, но поэт дорожит даже иллюзией освобождения. Гибель, смерть тоже является таким освобождением. Парадоксы любования смертью, зависти к ней, даже желания смерти другому поэт повторяет с почти демонстративной настойчивостью. Кроме «Авиатора», необходимо вспомнить близкий Набокову по образному строю «Петровский парк». Стихотворение посвящено висельнику, но в финале он оказывается более свободным, чем толпящиеся около него люди: «И был почти невидим / Тот узкий ремешок» [9, с. 155]. В «Письме в Россию» Набокова герой умиленно рассказывает историю старушки, повесившейся на могиле мужа: «я вдруг понял, что есть детская улыбка в смерти» [10, т. 1, с. 308]. Само тело не описано, возможно, оно снято, но это значимое отсутствие: остались только серповидные следы, ведущие к кресту, и ниточки на нем. Вероятно, и здесь зашифрована тема полета, отрыва от земли. Впрочем, как и в большинстве рассказов Набокова из первого сборника «Возвращение Чорба», мир в его повседневности не гнетет героя, а служит объектом созерцания. Хотя в финальной фразе «Счастье мое – вызов» [10, т. 1, с. 308] чувствуется некоторая экзальтация, но Набоков настойчиво проводит мысль о благости мира, возможности найти особый, как бы просветляющий, взгляд на него. Ходасевич к этому времени от подобных попыток уже отказался. С. Бочаров четко проводит демаркационную линию в поэзии Ходасевича: «Пожалуй, впервые именно в европейских стихах поэзия Ходасевича подходит в самом деле, уже без преображающих тютчевских “как бы”, “к миру, которого для классицизма нет”, подходит к нему опасно – для нее, поэзии, опасно – близко» [12, с. 453].
Еще одно едкое и горькое славословие полету-самоубийству – стихотворение Ходасевича «Было на улице полутемно…». Здесь причины некоторой едкой зависти к умершему осложняются: герою дано не просто лететь, но и видеть мир иным, возможно и не более подлинным, но обновленным: «Счастлив, кто падает вниз головой: / Мир для него хоть на миг – а иной» [9, с. 261]. Такое финальное обнажение мира переживает Лужин, также выбрасывающийся из окна: «Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним» [3, т. 2, с. 465]. Но финал полиинтерпретативен: увидел ли Лужин подлинный мир или, скорее, так и остался в плену у своей шахматной мании, разделившей на квадраты даже вечность, произошло ли обнажение истинного мира или трагедия как раз в отсутствии оного?
Еще один сюжет, который может обернуться как гибелью, так и триумфом, связан с образом образ канатоходца. На близость стихотворения Ходасевича «Акробат» и Набокова «Тень» указал Ю. Левин [6, с. 267]. В обоих рискованное ремесло превращается в метафору жизни и творчества. Ходасевич видит родство поэта с «фигляром» скорее в риске, в том, что оба ставят жизнь на кон и не вызывают сочувствия толпы, но нельзя исключать как основу сопоставления и временное воспарение над землей. Набоков отказывается от каких-либо сравнений, он лишь использует визуальный и отчасти звуковой облик как указание на раздвоение жизни. Тень акробата, вышедшая за пределы здания, словно воспарившая в небо, дает опыт иного существования:
И вдруг над башней с циферблатом,
ночною схвачен синевой,
исчез он с трепетом крылатым –
прелестный облик теневой [13, с. 166].
Финальный образ гаера, сошедшего за подаянием, не разрушает картину, неслучайно стихотворение называется «Тень». По древним поверьям, она может обретать самостоятельность, поэтому финал и не перечеркивает эффект, скорее говорит о том, сколь велика дистанция между двумя измерениями бытия.
На прямые философские высказывания в творчестве Набоков как бы добровольно накладывает запрет, причем чем позже написано произведение, тем строже он действует. Но категория потусторонности как авторское обозначение «трансцендентального измерения бытия» [14, с. 7], внимание к которой привлекла В.Е. Набокова в «Предисловии» к посмертному изданию русскоязычных стихотворений мужа и которую много лет спустя утвердил в набоковедении В.Е. Александров, остается у писателя предметом художественного воплощения на протяжении многих лет.
Одной из самых устойчивых метафор инобытия является метафора узора жизни, или, как ее определяет А. Долинин, «текстильная» метафора [7, c. 118]. «Там – неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд, там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем» [3, т. 4, с. 101]; «как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков – не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне» [3, т. 4, с. 489]; «Признаюсь, я не верю в мимолетность времени – легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой» [3, т. 5, с. 233]; «я почел бы за лучшее счастье / так сложить ее дивный ковер, / чтоб пришелся узор настоящего на былое – / на прежний узор» [3, т. 5, c. 425]. Второй пример, взятый из романа «Дар», несколько отличается от других: потусторонность трактуется как прекрасная оборотная сторона жизни (слово «изнанка» применимо к земному существованию). Специфика образа в том, что он предполагает не столько иной объект, сколько иной ракурс, т.е. ставит вопрос онтологический в прямую зависимость от гносеологического. Оборотная сторона жизненного узора, доступная после смерти при выходе из своей ограниченности, действительно, лучшая метафора, обозначающая соединение этой проблематики. В качестве развернутого сравнения двух фаз бытия образ узора жизни может восходить к стихотворению Ходасевича «Без слов»:
А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.
То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая…
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая [9, с. 180].
Оборотная сторона здесь напрямую сравнивается со смертью, т.е. герой стремится увидеть жизнь с позиции загробного мира. Впрочем, привычная лексика к миру Ходасевича, как и Набокова, неприменима. Важна не последовательность, а соприсутствие двух планов.
Перестановка оптических призм бытия возможна для Набокова в момент творческого подъема. Поэтическое вдохновение как акт изменения мировосприятия изображен в рассказе «Тяжелый дым». Л.В. Сыроватко уже обращалась к этому произведению, указав на его близость эстетике Ходасевича и отметив в названии отзвук заголовка цикла «Тяжелая лира» [8]. Однако представляется, что у этого рассказа есть и вполне конкретный, не названный ранее претекст – стихотворение «Эпизод». Ходасевич фиксирует в нем скорее мистический опыт, не связанный с творчеством, – опыт трансценденции, тогда как Набоков говорит о рождении стиха. Это изначальное расхождение очень показательно для понимания каждого из авторов.
Герои обоих произведений пребывают в неподвижности, но происходящее у них смещение восприятия сравнивается с морской качкой и созерцанием уплывающих пейзажей. Если Ходасевич ищет просто аналоги ощущений, то герой «Тяжелого дыма» воочию видит прибрежные пейзажи, составленные воображением из рисунков на обоях. Эта случайная морская тема оказывается важной метой родства. Сходно описывают авторы и изменение самоощущения, новое видение мира:
И вдруг – как бы толчок, – но мягкий, осторожный,
И всё опять мне прояснилось, только
В перемещенном виде [9, с. 159].
«Он почувствовал, уже не первый, – нежный, таинственный толчок в душе и замер, прислушиваясь – не повторится ли? Душа была напряжена до крайности, мысли затмевались, и, придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги. <…> Но тут, то есть в каком-то неопределенном месте сомнамбулического его маршрута, он снова попал в полосу тумана, и на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны, а главное настолько живее всех внешних восприятий, что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом, сутуловатого юношу с бледной небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале. Догнав себя, он вошел в столовую» [10, т. 4, с. 343].
Это возвращение в себя описывает и Ходасевич, но как нечто мучительное, неудобное: «Свершилось это тягостно, с усильем, / Которое мне вспомнить неприятно» [9, с. 160]. Трансцендентный характер открывшегося видения подчеркнут возможностью увидеть себя со стороны, дать собственный портрет. Если у Ходасевича внутренний опыт передается все же от первого лица, то рассказ Набокова написан от третьего, и лишь в финале возникают перебои, герой обретает право говорить от своего имени, то есть моментом высшего прозрения становится не выход из себя, а как бы возвращение своего «я», интенсивность ощущения собственной экзистенции.
Та же смена местоимений, с той же нагрузкой будет представлена и в романе «Приглашение на казнь», который фабульно наиболее близок к специфической идее Ходасевича о самостоятельности души, неравенстве ее собственному «я» человека, особенно ярко проявившейся в книге «Тяжелая лира». Как отмечал Ю. Левин, «в центральной для ПМХ [поэтического мира Ходасевича] мифологеме души она противопоставлена, как правило, не телу, но именно эмпирическому Я как целому. Душа и Я у Х[одасевича] раздвоены, разведены, душа ведет самостоятельное существование, но это и не христианская концепция, противопоставляющая душу и тело» [6, с. 231]. Набоков ближе к традиционному разделению, не раз он описывает «разоблачение» Цинцинната, включающее освобождение от тела, но он не готов нарушить целостность «я», человеческой самости: «Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, – но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!» [3, т. 4, с. 98]. Хотя в романе периодически появляется «добавочный Цинциннат» [3, т. 4, с. 50], который воплощает подлинные желания души, не скованной условностями балаганного мира, но у Набокова это скорее психологический прием раскрытия подавляемого, чем онтологическое заявление. Хотя С. Давыдов последовательно разделяет сущность этих персонажей: «В теме двойничества и соперничества двух Цинциннатов реализуется дуализм души и плоти. Духовный “Цинциннат Второй” берет наконец верх над “Цинциннатом Первым”. Плотский Цинциннат как бы растворяется в своей духовной сущности» [15, с. 81]. Cвой кажущийся нарциссическим восторг Ходасевич устремляет на иномирное в себе («И как мне не любить себя, / Сосуд непрочный, некрасивый, / Но драгоценный и счастливый / Тем, что вмещает он – тебя?» [9, с. 198]), а герой Набокова на телесное: «А я ведь сработан так тщательно, – думал Цинциннат, плача во мраке. – Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна...» [3, т. 4, с. 54–55]. В этом можно усмотреть как слепоту Цинцинната Первого, плотского, так и невозможность Набокова, все органы чувств которого обнажены навстречу миру, отказаться от земного, вещественного в пользу полной развеществленности.
Но некоторые образы Ходасевича были по-своему претворены Набоковым при создании романа о душе-пленнице. Многие мотивы восходят к общекультурным представлениям, например, освобождение души во снах, которые так заманчиво играют с Цинциннатом и которые описаны в стихотворении Ходасевича «Сны». На грани переосмысления структуры личности и традиционного поэтизма находятся у обоих обращения к душе. Представление души крылатой обитательницей изначально подлинного мира восходит у обоих авторов к Платону и его диалогу «Федр», хотя гносеологическая проблематика Набокова отсылает нас и к мифу о пещере, изложенному в «Государстве» (отметим, что С. Козлова связывает сюжет романа «Приглашение на казнь» с диалогом «Тимей» [16]). О том, что при создании образа героя могла учитываться трехчастная структура личности, обоснованная в «Федре», говорит странное оправдание Цинцинната: «Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, – это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня» [3, т. 4, c. 50], оно напоминает о знаменитой платоновской метафоре: «Пусть уподобится идея души соединенной силе, состоящей из крылатой колесницы и возничего. У богов все кони и возничие сами по себе благородны и происходят от благородных; у остальных существ – смешанного характера» [17, с. 123].
Платоновский генезис имеет и еще один запоминающийся образ с неожиданной физиологической подкладкой. Вслед за Платоном, сравнивавшим «то же страдание, какое бывает при прорезывании зубов, когда они только что начинают прорезываться и когда десны испытывают зуд и раздражение, происходит с душой при начале роста крыльев» [16, с. 130], Ходасевич пишет в стихотворении «Из дневника»: «Прорезываться начал дух, / Как зуб из-под припухших десен» [9, с. 214]. Набоков использует сходную метафору, но меняет основания, снова утверждая жизнь как норму и ценность. Рост заменен удалением: казнь «ясно предощущалась им как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом)» [3, т. 4, с. 87]. О. Сконечная, отметив данную фразу как аллюзию на стихотворение Ходасевича [17, с. 618], не указывает их общий платоновский источник.
Другая редкая метафора разлучения тела с душой принадлежит уже собственно Ходасевичу. В стихотворении «Пробочка» он обращается к аптекарской сфере:
Пробочка над крепким иодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело [9, с. 213].
Сходная аналогия «тело – сосуд», «душа – жидкость» звучит в «Приглашении на казнь»: «Бедненький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят и все это выльется» [3, т. 4, с. 82]. При устойчивости метафоры в культуре специфически ее окрашивает мысль о закупоривании души, препонах, мешающих ей легко излиться. Важно, что оба образа сразу привлекли внимание Набокова, он отметил процитированные стихотворения в рецензии на книгу Ходасевича в 1927 г. Поэтому даже при обращении к платоновскому образу можно предполагать, что он был актуализирован запомнившимися Набокову строками старшего современника. Вообще, сама настойчивость мотивов устремленности прочь от земного в «Тяжелой лире» чрезвычайно сходна по пафосу с романом Набокова.
Отметим, что мы обратились (за единственным исключением) только к прозаическому наследию Набокова, в поэзии тема двоемирия, желания и способов прорыва к инобытию разрабатывается полнее, но там она выглядит менее самостоятельной. Ходасевич занимал совершенно особое место среди поэтов Серебряного века. Его изначальная связь с символизмом, как бы далеко не отходил от него поэт, продолжала существовать. На фоне старших современников он мог выглядеть скептиком, поэтом без метафизической составляющей, но объективно его творчество говорит об ином. Эти общие истоки при последующем нежелании погружаться в богоискательство, ощущение гибельности жизнетворчества как писательского пути сблизили с ним В.В. Набокова. Именно поэтому новый вырабатываемый Ходасевичем способ, не впадая в мистику, не ограничиваться плоским материализмом, мог заинтересовать В. Набокова. Однако разрыв между земным и иномирным у Набокова практически отсутствует, двоемирие часто заменено двумя точками зрения на мир. Прорыв осуществляется не столько к инобытию, сколько к наиболее интенсивному восприятию реальности. Поэтому Набоков смягчает как степень эмансипации души от мира, свойственную «Тяжелой лире» Ходасевича, так и скепсис его «Европейской ночи».
Об авторах
А. В. Леденёв
Университет МГУ-ППИ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: aledenev@mail.ru
профессор; профессор
Китай, Шэньчжэнь; Москва, РоссияИ. Н. Коржова
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Email: clean24@yandex.ru
доктор филологических наук, профессор
Россия, МоскваСписок литературы
- Бабиков А., Шруба М. Письма В.В. Набокова к В.Ф. Ходасевичу и Н.Н. Берберовой (1930–1939). Письмо Н. Берберовой к В. Набокову // Vienna Slavic Yearbook. 2017. № 5. С. 217–248.
- Ходасевич В. О Сирине // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М.: НЛО, 2000. С. 219–224.
- Набоков В.В. Русский период. Собр. сочинений: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2002.
- Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб.: Искусство-СПБ; Набоковский фонд, 1998. 924 с.
- Набоков В.В. Предисловие к английскому переводы романа «Дар» (“The Gift”) // В.В. Набоков: pro et contra. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. 962 с.
- Левин Ю.И. О поэзии Вл. Ходасевича // Левин Ю.И. Избр. труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 209–267.
- Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб.: Академический проект, 2004. 400 с.
- Сыроватко Л.В. Тяжелый дар. Концепция творчества В. Ходасевича и мотив «встречи с небожителем» у В. Набокова // Вопросы литературы. 2010. № 3. С. 95–122.
- Ходасевич В.Ф. Собр. сочинений: В 4 т. Т. 1: Стихотворения. Литературная критика 1906–1922. М.: Согласие, 1996. 592 с.
- Набоков В.В. Собр. сочинений: В 4 т. М.: Правда, 1990.
- Nabokov V.V. Details of a Sunset and Other Stories. New York: McGraw-Hill, 1976. 182 p.
- Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 415–471.
- Набоков В.В. [Стихотворения] Р/на-Дону: Феникс, 1998. 480 с. (Серия «Всемирная библиотека поэзии»).
- Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Пер. с англ. Н.А. Анастасьева. СПб.: Алатейя, 1999. 313 с.
- Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004. 158 с.
- Козлова С.М. Утопия истины и гносеология отрезанной головы в «Приглашении на казнь» // Звезда. 1999. № 4. С. 184–189.
- Платон. Полн. собр. творений: В 15 т. Т. 5: Пир. Федр / Пер. С.А. Жебелева. СПб: Academia, 1922. 182 с.
- Сконечная О. Приглашение на казнь. Примечания // Набоков В.В. Русский период. Собр. сочинений: В 5 т. Т. 4. СПб.: Симпозиум, 2002. С. 603–634.