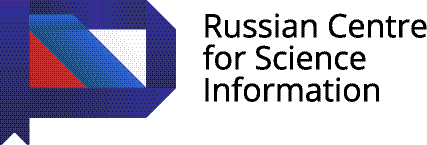Economics, Oikonomia, Domostroi: Introduction to the Anthropology of Household
- 作者: Ssorin-Chaikov N.V.1
-
隶属关系:
- Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
- 期: 编号 6 (2024)
- 页面: 5-22
- 栏目: Special Theme of the Issue: Economic Anthropology of Household Outside Metropolitan Areas in Contemporary Russia
- URL: https://ogarev-online.ru/0869-5415/article/view/276262
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524060017
- EDN: https://elibrary.ru/VUEHWB
- ID: 276262
如何引用文章
全文:
详细
This article is an introduction to the issue’s special theme on “Economic Anthropology of Household Outside Metropolitan Areas in Contemporary Russia”, featuring contributions by Lidia Rakhmanova, Aleksandra Kasatkina, Daria Tereshina, and Polina Yarovaya. This article contributes to rethinking economic anthropology in terms of culturally specific categories under study. It does so by revisiting the role of household in the genealogy of “economy,” and specifically by looking at Russian terms domokhozaistvo and domostroi. The article shows how domokhozaistvo harks back to oikonomia as Aristotile’s “art of running household” and the new testament’s divine management of the world as god’s home. In turn, domostroi evokes the name of the 16th century Moscow courtly instructions that combine these classical Greek and Christian connotations. The article also suggests thinking through the implications of the Aristotilian categorical foundation of the “economy” in ways in which it is part to an oikonomic ethical judgement based on the state of exception. This allows us, on the one hand, to rethink economic anthropology as part of the anthropology of ethics, and, on the other, to reconceptualize its ethnographic methodologies which “case studies” frequently follow the non-typical and are not necessarily representative.
全文:
Экономическая антропология возникла как проекция рыночной рациональности на любую жизнедеятельность. Если экономика, по ставшему классическим определению А. Маршалла, это изучение человека в “обычном бизнесе жизни” (Marshall 1890: 1), то экономическая антропология – рассмотрение жизни как бизнеса. Не столь важно, материальный ли доход составляет тот результат (прибыль), который человек старается приблизить к максимуму, сводя к минимуму затраты на его получение (Robbins 1932), или, к примеру, престиж, о котором писал Б. Малиновский в своей, как ему казалось, не оставляющей от такого экономизма камня на камне этнографической критике. В последнем случае, будучи выставленным за дверь, экономизм вернулся через окно именно в виде стремления увеличить власть при помощи обмена дарами (Malinowski 1922: 113–148). Возможность экстраполяции формализуемых теорий, таких как теория рационального выбора, на практики, весьма далекие от увеличения экономического дохода, послужила основой так наз. экономического формализма. Одним из ярких примеров подобной формальной логики является использование Ф. Бартом в своей “этнографии обретения союзников” теории игр (производной от теории рационального выбора) с непривычными для глаза антрополога формулами (Barth 1959). Его понимание “трат дохода” (дохода как политического, так и материального) на “праздники и подарки… по схеме, аналогичной потлачу” в целях увеличения личного статуса (Ibid.: 18), предвосхищает оказавшееся живучим понятие “экономика дара” (Cheal 1988; Yan 2012; Zeitlyn 2003).
Статьи предлагаемого вниманию читателя тематического блока рассматривают домохозяйство в получившей название “субстантивистского подхода” оптике, которая возникла как альтернатива экономическому формализму. Как показывают А.К. Касаткина, Д.В. Терешина и Л.Я. Рахманова, домохозяйство – арена воспроизводства родственных и гендерных отношений. Даже если эти хозяйства вовлечены в экономическую деятельность, такую как охота и рыболовство (Л.Я. Рахманова), труд на даче (А.К. Касаткина) или семейный бизнес (Д.В. Терешина), экономика здесь – не формализуемое стремление увеличить материальный результат, а культурно-специфический контекст семейных и соседских отношений. П.Р. Яровая пишет о крестьянском доме как части и как метафоре восстанавливаемого монастыря, в котором экономически ориентированная “работа” сочетается с “трудом” как служением Богу. Сломать дом и выстроить новый было бы и дешевле, и быстрее. Но именно в медленной и далекой от практичности экономического результата реставрации проявляется теологический смысл труда. Субстантивизм настаивает на специфике того, что понимается под экономикой в данном культурном контексте. Домохозяйство (подр. об определении домохозяйства см.: Wilk 2019; Moore 1992; Yanagisako 1979) – его яркий, хотя и далеко не единственный, пример. Субстантивизм приближает экономику к регистру “эмных” категорий, т.е. к внутренним понятиям изучаемого сообщества или культуры, и ставит под сомнение возможность “этных” исследовательских понятий, внешних по отношению к культурно-специфическим (“эмным”) категориям. Впрочем, как отмечает А.К. Касаткина, в современной России “домохозяйство” является в основном “этным” понятием. За пределами академической литературы оно используется лишь в ограниченном количестве административных и юридических контекстов, в частности в реестре домовладения, да и там ключевые термины – это скорее “похозяйственная” и “домовая” книги.
Но если “эмный” статус домохозяйства действительно ограничен, то оно представляет собой одну из составных частей “эмного” значения “экономики”, что я и покажу в этой статье. История понятия “экономика” восходит к аристотелевскому “искусству управления домом” (techne oikonomike – от греч. oikos). Мой аргумент заключается в том, что экономика как “ойкономия” имеет свою “эмную” историю в чисто российском понятии “домострой”, которое восходит к наставлениям Московской Руси XVI в., соединившим язык греческой “ойкономии” и новозаветной “икономии” – божественного управления миром как Своим домом.
Подобное прочтение позволяет не просто переместить домохозяйство ближе к центру экономической антропологии, но помыслить последнюю по-другому. Следуя Аристотелю, который подчиняет “ойкономическую” логику этике, в этой статье я рассматриваю экономическую антропологию как часть антропологии этики – но не столько для того, чтобы дополнить исследования экономики как предпринимательства этнографией домохозяйства, сколько для того, чтобы рассмотреть и то и другое в единстве экономического, космологического и символического порядков. Ниже я подробно остановлюсь на том, что в аристотелевской этике “икономия”/“ойкономия” опирается на суждение на основании состояния исключения. Эта формулировка стала известна в антропологии суверенной власти благодаря К. Шмитту и Дж. Агамбену. Но здесь важно иметь в виду гораздо более широкий смысл понятия “исключение”, который работает как этический принцип справедливости далеко за пределами политической антропологии. Иными словами, статья предлагает не останавливаться на замене экономики политикой, а последовать за Аристотелем в рассмотрении и того и другого как подчиненных этике. Наконец, состояние исключения не просто категория, которую мы исследуем. Оно касается также (если не в первую очередь) работы наших собственных аналитических понятий, при помощи которых мы исследуем. Действительно, мы как этнографы постоянно имеем дело с исключительным, единичным, нетипичным, следующим духу, а не букве репрезентативности, часто и не претендуя на то, чтобы описывать “повторяющееся действие” (Tyler 1986: 130), – здесь состояние исключения интересно именно как методология. В статье предлагается “ойкономическая” антропология в единстве предмета и метода исследования. Рассмотрим подробнее эти логические ходы.
Экономика и ойкономия
Соотношение “ойкономии” и “экономики” и в раннее Новое время, и в эпоху Просвещения служит предметом споров, пока на рубеже XVIII и XIX вв. не появляется идея экономики как саморегулирующегося “общества” вместо экономики как заботе о доме и его обитателях.. Как показывает К. Поланьи, эта идея зарождается в дискуссиях о патерналистских обязательствах государства по отношению к потерявшим работу. Здесь главную роль играет “Диссертация о законах о бедных” Дж. Таунсенда (1786), которая в свою очередь опирается на “теорему коз и собак”. Испанцы для пропитания команд своих кораблей высадили на о-ве Робинзон-Крузо у побережья Чили коз, которые, быстро размножившись, стали едой и для пиратов, в основном английских, подрывавших испанскую торговлю в этих водах. Для борьбы с пиратами испанцы привезли на остров пару собак, которые также быстро размножились и сбалансировали фауну острова. К. Поланьи цитирует Дж. Таунсенда – “слабейшие обоих видов животных быстро отдавали долг природе; выживали же сильнейшие” – и приводит его вывод: “количество еды регулирует количество людей”.
Голод приручит самых лютых животных и привьет благопристойность и вежливость самым порочным [людям], научив их подчинению и субъектности [obedience and subjection]. Только голод может стимулировать и пришпоривать их [бедняков] к работе; наши же законы утверждают, что они никогда не должны голодать. <…> Это раба надо принудить к труду, свободный же должен судить сам [трудиться ли] в своей собственной осмотрительности; и он должен быть защищен в его собственном стремлении к удовольствию, большому или малому, и наказан только если он захватывает собственность соседа (Polanyi 1944: 118–1191).
Отсюда следует, что государству нужно перестать кормить бедноту, а рынок освободить от оков патерналистского регулирования: дать рынку создать свои мотивации трудиться в виде боязни безработицы и голода. Как пишет с иронией К. Поланьи, Т. Гоббс считал, что “без деспота люди – звери [beasts]”, и поэтому государство нужно именно как деспот, насилием сверху прекращающий насилие людей по отношению друг к другу. У Дж. Таунсенда же аргументация противоположная: “государство не должно вмешиваться в экономическую жизнь людей именно потому, что люди – звери” (Polanyi 1944: 119). Взгляды Т. Гоббса и Дж. Таунсенда через мальтузианский “Опыт закона о народонаселении” (1798) оказывают влияние на Ч. Дарвина. Но еще до теории Ч. Дарвина эта перспектива становится важной для обоснования поправки 1834 г. Британского парламента, которая отменяет раздачу хлеба безработным. Здесь либерализм XIX в., как и “неолиберализм” ХХ и XXI вв., с одной стороны, настаивает на естественности появления рынка в виде исторически спонтанной формы саморегулирования, а с другой стороны, подразумевает волевые политические решения по созданию “естественного” пространства свободы выбора – трудиться или быть безработным. Без этих политических решений патернализм и пособия по безработице продолжали бы править.
В этом вопросе К. Поланьи и М. Фуко едины (Polanyi 1944; Foucault 2008), хотя эти авторы далеко не всегда рассматриваются вместе. Любопытно, что оба они ссылаются на “Паноптикум” И. Бентама. К. Поланьи (Polanyi 1944: 146) предвосхищает анализ М. Фуко в его работе “Надзирать и наказывать” (Foucault 1977). И. Бентам говорит о необходимости создания такого социального пространства, в котором у вас нет иного выхода, как быть полицейским себе самому, и в котором постоянно присутствующий контролер не нужен. В результате (о чудо!):
Моральные устои отреформированы – здоровье сохранено – промышленность воодушевлена – публичные тяготы облегчены (публичные здесь “государственные”. – Н.С.-Ч.) – экономика усажена на твердую скалу – гордиев узел “Законов о бедных” развязан, если не разрублен, – и все это при помощи простой архитектурной идеи! (Bentham 1791: 139–140)
Именно это М. Фуко называет дисциплинарной властью (Foucault 1977), которая медленно зреет от эпохи Западноевропейского Возрождения до Нового времени, но достигает кульминации в неолиберализме ХХ в. (Foucault 2008, 2007), делая субъектов этих новых отношений власти “узниками свободы” (Englund 2006). История понятия “экономика” здесь включает в себя страницы “политической экономии” – понятия на перекрестье власти суверенной, управления государством как “большой семьей” и того, что М. Фуко называет биовластью (Foucault 2007, 2008). Биовласть можно видеть уже в приведенной выше цитате из Дж. Таунсенда, хотя это понятие касается не столько модерности, движимой угрозой безработицы и голода, сколько возникающей в это время новой системы заботы о здоровье и здоровом сексе (Foucault 1978). М. Фуко подчеркивает, что исторически новые политические отношения работают в исторически новой двойственности политики и полиции, производных от греческого “полиса” (Ibid.). Напротив, Дж. Агамбен видит здесь преемственность с античной традицией. “Биовласть” определяется как таковая не просто потому, что для нее забота о населении является точкой входа, но и потому, что ее историческим предметом является bios – “жизнь достойная” и “полноценная”, т.е. жизнь гражданина, а не zoos – физическое существование раба, женщины или ребенка (Agamben 1998).
Ойкономия и домострой
…власть господина (“хозяина дома”. – Н.С.-Ч.) и власть государственного мужа… не тождественны, как то утверждают некоторые. Одна – власть над свободными по природе, другая – власть над рабами. Власть господина в семье – монархия (ибо всякая семья управляется своим господином монархически), …власть же государственного мужа – это власть над свободными и равными (Аристотель 2018: 16).
Искусство экономики (techne oikonomike), согласно Аристотелю, – это управление домом. Город-государство (polis) состоит из домохозяйств, но, с его точки зрения, представляет собой более всеобъемлющее понятие. Политика как “искусство (techne – “умение”) государственного управления” подчинена общему благу, что является предметом этики (см. ниже). Но домохозяйство – это не просто дом, где живет малая или большая семья, это сложная совокупность, включающая в себя по крайней мере три разновидности взаимоотношений: “деспотические” отношения господ и рабов, “патерналистские” отношения отцов и детей и “гаметические” отношения мужей и жен (Аристотель 1969).
Идеи Аристотеля развивает Ксенофонт в своем “Домострое” (Ксенофонт 1935: 251–322). “Домострой” написан как диалог Сократа с двумя греками, более сведущими в ведении домашнего хозяйства, чем сам Сократ, никогда не занимавшийся ни домохозяйством, ни земледелием (Соболевский 1935: 247). Один из собеседников Сократа пересказывает ему свой разговор с женой. Он говорит о жене как о женщине, не умевшей “прясть шерсть” и “служить за столом”, “не знавшей обязанностей экономки”, из которой он сделал “знающую, верную, ловкую прислугу, которой цены нет (курсив мой. – Н.С.-Ч.)” и не будет, в особенности, когда сам хозяин постареет. Для осуществления такой “заботы” и нужен “Домострой” – как инструкция, описание порядка вещей, “чтобы ты знала… где должна каждая вещь лежать, …куда надо класть и откуда брать”. Из дальнейших пояснений собеседника Сократа мы видим, что в основе этого “искусства экономики” – строй и порядок: “На свете нет ничего столь полезного, столь прекрасного, как порядок” (Ксенофонт 1935: 279–280). Примерами экономики такого видимого домашнего порядка являются хор (если “люди действуют и поют в порядке, то стоит на них посмотреть и послушать”) и войсковой строй (“войско в порядке представляет прекрасное зрелище для друзей и очень тяжелое для врагов”). Но “[п]ревосходный, в высшей степени аккуратный порядок видел я однажды, Сократ, при осмотре большого финикийского судна: масса корабельных снастей, положенных каждая отдельно, увидал я, находилась в очень маленьком вместилище” (Там же: 281). Это были снасти “лежачие” – для причаливания и отчаливания корабля, “висячие” – для его движения, приспособления и оружие “для защиты от неприятельских судов”, утварь для обеда и наконец груз, “который везет с собой хозяин ради прибыли”:
Все, что я назвал, лежало на пространстве, немного разве превышающем размеры средней комнаты с десятью койками. И все предметы, как я заметил, лежат так, что не мешают один другому, нет надобности их разыскивать, все они в готовом для употребления виде, не трудно их распаковать, так что не нужно тратить времени, когда вещь наскоро понадобится. А помощник кормчего, который называется “носовым” на корабле, оказалось, так знает каждое место, что даже заглазно может сказать, где что лежит и сколько чего, ничуть не хуже, чем грамотный человек может сказать, сколько букв в слове “Сократ” и где какая поставлена (Там же: 281–282).
Сравнение с кораблем появляется и в “Похвале женам” – части “Домостроя” Московской Руси XVI в.:
будь, как корабль торговый: издалека вбирает в себя богатства и возникает в ночи; и даст она пищу и дело служанкам, от плодов своих рук увеличит достоянье намного; препоясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело, и чад своих поучает, как и рабов, и не угаснет светильник ее всю ночь; руки свои протягивает к прялке, а персты ее берутся за веретено, милость обращает на убогого и плоды труда подает нищим, – не беспокоится о доме муж ее: самые разные одежды расшитые сделает мужу своему и себе, и детям, и домочадцам своим (Колесов, Рождественская 1994: 231).
Публикуемый список этого текста приписывается Сильвестру, протопопу Благовещенского собора в Кремле, члену Избранной рады при молодом Иване Грозном, которому и адресованы эти наставления. Линии связей освещаются в литературе по философии хозяйства и в текстологических комментариях к “Домострою” XVI в. (Юдина 2014; Шестаков 1901; Лихачев 1985; Колесов 1994), но не в экономической антропологии. Эти линии идут сквозь двойные трудности перевода в российском контексте. Во-первых, российский термин “хозяйство” переводится как “экономика”, но это перевод неточный и неполный. Англоязычная антропологическая литература, чувствительная к культурной специфике терминов, использует “хозяйство” и “хозяин” в латинской транскрипции – khoziaistvo и khoziain (Paxson 2005; Rogers 2006). Во-вторых, это перевод не только с русского, но и на русский. Как подчеркивает Я. Коцонис, российская категория “хозяйство” начинает жить новой жизнью именно в переводной западной литературе об экономике. Это происходит в XIX в. путем создания “неологизма” – понятия “народное хозяйство” как переноса в контекст русского языка немецких Volkswirthschaft и Nationalökonomie и французских économie populaire и économie nationale (Kotsonis 2014: 29). Происходит накопление синонимов, но – одновременно – и накопление смысловых зазоров между ними.
Любопытно и вряд ли случайно то, что один из сократических диалогов Ксенофонта об “экономике” был назван у Брокгауза и Ефрона “О домоводстве2”, а перевод самого диалога на русский сначала получает заглавие “О хозяйстве” (Ксенофонт 1902: 74–94). Перевод советского времени назван “Домостроем” (Ксенофонт 1935: 247–322), что отсылает к “Домострою” Московской Руси, публикации которого в XIX в. почти сразу дают основание художественной литературе и критике называть московский уклад “домостроевщиной” (Колесов 1994: 301–303; 329). Подобное единство (и двойственность) научного значения и отсталости характеризует и эти публикации, и статистику народного хозяйства, еще в 1911 г. не включающего в себя сельское хозяйство, поскольку последнее еще далеко не полностью было рыночным (Kotsonis 2014: 29). Здесь важна идиома другого времени, запертого в “современности” в виде “живой старины”. Мы можем это видеть в самых разных текстах – от «Об археологическом значении “Домостроя”» издателя русского фольклора А.Н. Афанасьева до “Очерков истории русской жизни” публициста-народника Н.В. Шелгунова (Афанасьев 1850; Шелгунов 1895). Политическая экономия народного хозяйства, включающая новые темы научных исследований, такие как крестьяноведение и агрономия за пределами помещичьего хозяйства, становится и формой биовласти с опорой на “камералистские” идеи экономики как заботы государства (Kotsonis 2014), и менеджментом отсталости.
И к “Домострою” Ксенофонта, и к “Домострою” XVI в. сложно относиться как к историческому источнику, свидетельствующему о том, что представляли собой домохозяйства того времени. Но основой этой нормативной перспективы является взгляд на государство как государев двор. На это обращает внимание Дж. Агамбен, когда пишет, что Ксенофонт, в отличие от Аристотеля, противопоставляет государство (полис) и домохозяйство “не столь контрастно” (Agamben 2011: 17). В случае “Домостроя” XVI в. государство как государев двор – это и дворец с гендерным устройством быта царей и цариц (Забелин 2019), и совокупность подчиненных дворян и дворовых, связанных логикой застолья – “кормленческой функцией самодержавной власти” (Кондратьева 2006: 23–70). Исторические исследования экстраполируют эти контуры взаимоотношений на историю Кремля как жилого пространства (Merridale 2013), на советские кремлевские застолья (Кондратьева 2006: 71–155) и на срез жизни “Дома правительства” на Берсеневской набережной (Слёзкин 2019). Это быт элит, где домашнее хозяйство – единица привилегированного потребления.
Статьи данного специального выпуска значительно расширяют предметный круг анализа. Вниманию читателей предлагаются яркие картины домостроя малого семейного бизнеса (см. статью Д.В. Терешиной в наст. выпуске), восстанавливаемого монастыря (см. статью П.Р. Яровой в наст. выпуске), а также дач и дачников, “осваивающих” свои участки (см. статью А.К. Касаткиной в наст. выпуске), что можно сравнить с идиомами “освоения” территории, например, Обского Севера русским, исторически крестьянским населением (см. статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске).
Статьи проливают свет на взаимоотношения и “материальную культуру за закрытыми дверями” (Miller 2001). Но самый главный вклад данного спецвыпуска заключается в том, что предлагаемые исследовательские случаи позиционируют экономическую антропологию по-другому – как часть антропологии этики.
Ойкономия как хозяйство и как благо
Рассмотрим “аккуратный порядок” финикийского судна в “Домострое” Ксенофонта и наставление быть “как корабль торговый” в “Домострое” XVI в. не просто как хозяйство, но и как благо. Если каждое из искусств, включая, например, мореходство или ведение домохозяйства, направлено на достижение конкретной цели или блага, то этика имеет дело с целями целей, благами всех благ – со всем тем, на что направлены конкретные искусства, которыми занимаются жители полиса. Согласно Аристотелю, этика – высшая политическая наука (Аристотель 2020: 3), причем не потому, что политическая наука, политология или государство превыше всего, а потому, что этика – главная наука в полисе, так как именно она позволяет “определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится”. Этика “относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждается государство [полис] и каким наукам следует обучаться отдельным лицам, и в каких пределах” (Там же).
В свою очередь то, “что следует делать и от чего воздерживаться” (Там же), основано на понятии справедливости, которое определяет логику компенсации за лишение возможности достичь конкретного блага. Но при этом поддержание справедливости как баланса – определение “каждого места, …где что лежит и сколько чего” (Ксенофонт 1935: 282) – не сводимо к геометрии и арифметике справедливости в применении ко всему многообразию отношений людей и вещей. Что же следует добавить к их порядку? Что его нарушает, но тем не менее лежит в его основе?
Суждение о справедливости следует логике, уравнивающей и распределяющей, но распределение предполагает не только справедливость права, но и справедливость правды (epieíkeia [Аристотель 2020: 110]) как снисхождения, или “милости” (Колесов, Рождественская 1994: 231). Источник “правды” божественный, а не человеческий, хотя снисхождение прежде всего свойственно справедливому человеку или судье (Cessario 1996: 172–174). Дж. Агамбен указывает на заботу и лечение как одну из смысловых линий “правды” (Agamben 2011: 19), цитируя патриарха Константинопольского Фотия I (IX в.), утверждавшего что “ойкономия” означает “экстраординарное и непонятное воплощение Логоса” как «случайного ограничения или приостановления эффективности строгости законов и введения смягчающих обстоятельств, “экономящего” [dioikonomountos] повеление закона ввиду слабости тех, кто должен его получить» (Agamben 2011: 49). В христианской литературе начиная с конца IV в. за термином “ойкономия”/“икономия” закрепляется значение определенной юридической меры церковного права, состоящей в изменении правопорядка с целью спасения человека в конкретных обстоятельствах. В контексте божественного управления миром как Своим домом “политическая власть в ее триипостасном качестве (бог–царь–хозяин) экономически замыкается пространством личного подворья” (Колесов 1994: 333), а этически – понятием справедливости. Если в догматическом богословии божественный источник “правды” являет собой “икономию” как совокупность действий Бога в творении мира, то в каноническом праве это добровольное отклонение от законодательных норм, обычно через их смягчение; такое отклонение определяется в каждом конкретном случае отдельно, а не утверждается в виде собственно юридического правила. В божественном порядке нет ничего исключительного, но в его рамках справедливый человек, судья или сюзерен действуют через состояние исключения по отношению к писаным правилам (Schmitt 1985; Agamben 2005).
Таким образом помысленный “Домострой” начинается с наставлений “как христианам веровать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу, и в Крест Христов”, “как тайнам божиим причащаться и веровать в воскресение из мертвых”, “как любить Бога всею душой” и “как святителей почитать”. После этого следуют наставления “как царя и князя чтить и повиноваться им во всем, и всякому властителю покоряться, и правдою служить им во всем” и только потом – как дом “в чистоте содержать”, хотя чистота здесь имеет смысл прежде всего прикосновения “с чистой совестью” к святым образам, “украшающим” дом (Колесов, Рождественская 1994: 221–224).
Суть “Домостроя” в поддержании дома, двора и хозяйства “в порядке”, с тем чтобы у мужа “всякое бы орудие в порядке было на подворье: и плотницкое, и портновское, и кузнечное, и сапожное, а у жены для всякого ее рукоделия и домашнего обихода всегда бы порядок был свой, и держалось бы все то бережно, где что нужно: …берешь свое без лишнего слова” (Там же: 240). Идеал “Домостроя” – “это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости – запасливости и нищелюбия” (Лихачев 1985: 12).
“Порядок” домостроя, по Аристотелю и Ксенофонту (см. выше), становится божественным планом спасения (Agamben 2011). Иными словами, расположение всех предметов – которые “лежат так, что не мешают один другому” и “нет надобности их разыскивать” – так, что “все они в готовом для употребления виде, не трудно их распаковать, так что не нужно тратить времени, когда вещь наскоро понадобится” (Ксенофонт 1935: 281), указывает также на спасение – как то, зачем именно вещи и люди “понадобятся”.
Этот же порядок распространяется и на отношения мужа и жены. Их иерархия описана в ярких деталях подчинения, включающего наказание плетью, что распространяется, впрочем, не только на супругу, но и на детей и слуг. Плеть предпочтительнее всего остального: “ни по уху, ни по глазам не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным или деревянным не бить”. Впрочем, “правдой” как милостью надо наказать и простить: “побить не перед людьми, наедине поучить, да приговаривать и попенять, и простить” (Колесов, Рождественская 1994: 245). Сам порядок резонирует с “превосходным, в высшей степени аккуратным порядком”, отмечаемым Ксенофонтом в пространстве, “немного разве превышающем размеры средней комнаты с десятью койками” (Ксенофонт 1935: 281). Он есть и в московском “Домострое” – в житницах, сушильнях, амбарах, на конюшнях, но более всего в компактных пространствах двора и погреба: “[в]се бы те непочатые и початые сосуды стояли [в погребе] с рассолом да пригнетены дощечкою и камнем тяжелым, а огурцы и сливы и лимоны также в рассоле бы были, огурцы же под решеточкой придавлены легонько камешком, а плесень всегда счищать и доливать рассолом” (Колесов, Рождественская 1994: 260–262).
Правда и состояние исключения
Любопытно, что на русский язык epieíkeia Аристотеля переводится как “правда”. Аристотель начинает свое рассуждение с неполной синонимичности “правды” и “справедливости” и со смысловых зазоров между этими понятиями: “При ближайшем рассмотрении понятия правды и справедливости кажутся не безусловно тождественными, но также и не различными по роду”. Правда всегда касается конкретного случая применения справедливости. И здесь правда “является высшею справедливостью”, не будучи при этом “лучшей справедливостью”. “Затруднение же возникает в силу того, что правда, будучи справедливой, не справедлива в смысле буквы закона, а есть исправление законной справедливости. Причина же этого заключается в том, что всякий закон – общее положение, а относительно некоторых частностей нельзя дать верных общих определений” (Аристотель 2020: 110–111).
Когда следует судить на основе “общего положения и нельзя это сделать вполне верно, закон держится случающегося чаще всего”. В этом суждении “недостаточность закона сознается” – при том что также сознается, что “закон верен, ибо ошибочность заключается не в самом законе или законодателе, а в природе объекта закона”. “Итак, правда есть справедливость и лучше, чем отдельный случай применения справедливости, но не лучше справедливости вообще, а лишь лучше той, которая в силу своей общности заключает в себе ошибочность” (Там же).
Состояние исключения и этнографический случай
В данной статье и в данном спецвыпуске я использую этическое суждение Аристотеля о “правде”, основанной на состоянии исключения, для того чтобы очертить контуры “ойкономии” этнографического метода. Мы видим, с одной стороны, “закон”, который “держится случающегося чаще всего”, а с другой – “некоторые частности”, в отношении которых “нельзя дать верных общих определений” (Аристотель 2020: 110–111). В своей критике социологической закономерности М. Вебер указывает, что однократное “действие” становится “поведением”, для которого можно даже определить численные значения, если это одно и то же повторяющееся действие. Отдельный случай может и не повторяться, и он требует другого вида методологии – идеально-типической и понимающей (Weber 1949).
К. Гирц называет это “насыщенным описанием”, которое предполагает не просто пересечение нескольких точек зрения на одно и то же. Его пример – пересечение разных перспектив на ограбление дома еврейского торговца в Центральном Марокко: взглядов французских колониальных властей, берберов и самого торговца. Впрочем, то, что делает это описание “насыщенным”, не составляет сколько-нибудь подробной этнографии каждой из перспектив. К. Гирц рассматривает всего один эпизод воспоминаний 1968 г. – нарратив еврейского торговца о том, что происходило в 1912 г. (Geertz 1973: 7, 9). Но этот нарратив достаточен для логики рассуждений К. Гирца. Она заключается в следующем: торговец потребовал компенсации, хотя мог и не настаивать на этом; берберы, которые вызвались ему помочь, могли этого не делать; те, кто напал и ограбил дом торговца, могли решить не выплачивать компенсацию, а сражаться с берберами, предложившими помощь торговцу; наконец, французские власти могли позволить торговцу оставить компенсацию себе (а не отбирать овец, которыми она была выплачена) и не сажать торговца в тюрьму за запрещенную ими же практику таких выплат. Иными словами, идеально-типический анализ – что и делает описание “насыщенным” – работает не через этнографически насыщенный контекст с глубокой этнографией разных точек зрения, а через указание на то, что произошедшее могло случиться по-другому. “Антропологическая интерпретация” прослеживает “кривую социального дискурса, фиксируя его в форме, доступной инспекции”, причем в этом антрополог стоит за плечом информанта, который также интерпретирует происходящее (Geertz 1973: 19). Логика инспекции инспекции здесь повторяет логику блага благ: это “правда” (epieíkeia), основанная на состоянии исключения, – на том, что могло случиться по-другому и что требует внимания к единожды произошедшему, а не к повторяющемуся. М. Ламбек считает основой антропологии повседневной этики то, что и как “могло случиться по-другому” (Lambek 2010: 39).
Состояние исключения – как то, что могло случиться по-другому – касается места и роли женщины в семейном бизнесе как домострое (см. статью Д.В. Терешиной в наст. выпуске). С одной стороны, такие предприятия “дают возможность мужчинам утвердить свое место в семье на правах кормильца и хозяина предприятия/домохозяйства, а женщинам переопределить себя через успешное материнство и отказ от части ответственности за судьбу предприятия/домохозяйства (курсив мой. – Н.С.-Ч.)” (см. статью Д.В. Терешиной в наст. выпуске). С другой стороны, строй домохозяйства в его патриархальности – это труд женщин не просто потому, что все берется “в свои руки” “по необходимости, обычно одинокими матерями, которые вынуждены заниматься бизнесом в силу сложных жизненных обстоятельств”, как полагает один из информантов Д.В. Терешиной, но также и потому, что именно они и ранее “поддерживали бизнес на плаву”. Мужчины чаще выступают в роли “творца” или “зачинателя” и спонсора семейного бизнеса, но потом отступают на второй план. Домострой и его гендерный порядок выражаются в виде отсутствующей фигуры мужчины, когда реальной главой и домохозяйства, и семейного бизнеса является либо трудящаяся для его успеха жена, либо вообще разведенная женщина или мать-одиночка.
В нарративах жителей Санкт-Петербурга о своих дачах, которые рассматривает А.К. Касаткина, гендерные различия касаются, например, эстетического подхода жены к садоводству (к выращиванию “почти бесполезных, но таких красивых баклажанов” – хотя то, что подумал об этой красоте муж, осталось неизвестным) – и “более утилитарной позиции, делегированной мужу” (см. статью А.К. Касаткиной в наст. выпуске). В речных/таежных избушках и заимках Обского Севера подобный эстетический смысл также гендерно окрашен, хотя это касается не огорода, а самого жилища, которое не часто посещается женой рыболова/охотника. Если это случается, то избушка может быть раскрашена женщиной “кисточками (далее нецензурно)”, говорит один из мужчин (см. статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске). В рассматриваемых в настоящем спецвыпуске случаях домохозяйства распределены территориально и (иногда) гендерно. “Женственность” дачи как городского домохозяйства – это “дом”, а “женственность” таежной избушки и заимки – это не “дом”, а “модерность”, также ассоциированная с городом или поселком как продолжением городской эстетики. Здесь и пространство, и гендер являются “воображаемыми вселенными”, оплетенными “сетью отношений между людьми” (см. статью А.К. Касаткиной в наст. выпуске), но также лесом, соболями, рыбой и другими “нечеловеческими субъектами” (см. статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске). В случае семейного бизнеса, рассмотренного Д.В. Терешиной, гендер “окрашивает” экономический труд в рыночном его смысле. Но поскольку источник труда – супруга как член семьи, то этот труд хронически недооплачен (Tereshina 2021).
В подобной идеально-типической логике анализирует смыслы труда П.Р. Яровая. Я уже упоминал выше о разнице между восстановлением дома и его сломом и выстраиванием нового – что было бы дешевле. Здесь не просто предпочтение одного действия другому. Работа состоит из подобных действий, которые можно делать или нет, или делать по-другому (Geertz 1973; Weber 1949; Lambek 2010). Неважно, что эти действия имеют вероятностный характер. Теория вероятности – это объективное описание со стороны. Что же делать в данном случае – вопрос интерпретации действия его участником (актором), и делать или нет – это его/ее решение. Более того, фиксация дискурса “в форме, доступной инспекции” (Geertz 1973: 19) порождает вопрос, называть ли это действие работой или трудом. В ситуации восстановления монастыря, рассматриваемой П.Р. Яровой, называние – решение настоятеля, который здесь хозяин, т.е. сюзерен, решающий, что есть правило и что есть исключение. Восстановление дома – “ойкономия” и хозяйственных действий, и суждений. Теологический смысл “труда” и светский смысл “работы” здесь суть идеальные типы. И то и другое не разрушается, а, напротив, поддерживается тем, что может происходить, а может и не происходить или происходить по-другому. Таким образом, религиозный и мирской экономические смыслы этого хозяйства не размывают друг друга и не превращаются друг в друга – например, религиозное не становится просто экономическим или, наоборот, экономика не сакрализуется. Эти логики работают вместе, опираясь друг на друга как взаимодополняющие состояния исключения.
Как показывает Л.Я. Рахманова, подобная логика различения касается мужских и женских обязанностей и ролей, а не религиозного и мирского смыслов хозяйства. Эти различия, впрочем, «не складываются в мужскую и женскую базовую, индивидуальную “природу” (идентичность), а, напротив, распределены по разным “базам” (избушка, заимка, поселок)» (см. статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске). Гендерные обязанности и роли здесь также идеальные типы. Таежная универсальность охотника и в охоте, и в домашних обязанностях в таежной избушке указывает на гендерное “распределение” (Там же) пространства и отношений обмена (“дележа”) между частями личности в континууме взаимоотношений, которые одновременно и меньше, и больше индивида. Но состояние исключения в этом контексте прежде всего касается не понимающей, или идеально-типической, методологии этнографического описания, а гендера самого антропoлогического исследования, где этнограф – женщина, которой было не так просто оказаться в чисто мужском пространстве таежной охоты и охотничьей избушки или рыбалки (см.: Рахманова 2019).
Состояние исключения как этнографический метод возвращает меня к одному из главных тезисов данной статьи. “Икономия”/“ойкономия” интересна именно тем, что она относится не только к онтологии – к тому, как понимается реальность (дом, рынок, полис или весь мир), но и к тому, кто или что ею управляет. В нашем случае (я имею в виду все статьи, вошедшие в этот спецвыпуск) “икономия”/“ойкономия” – логика рассуждения, а не просто предмет этого рассуждения, такой как дом или рынок. “Икономия”/“ойкономия” касается отношений между этими аналитическими категориями. В центре аристотелевской этики лежит понятие справедливости, которое важно для экономики как в рыночном, так и в других ее смыслах, таких как “ойкономия” или управление в доме, на даче, на заимке или в таежной избушке, в семейном бизнесе, в труде и работе по восстановлению монастыря. Именно в этой структуре понятия справедливости чрезвычайно важное место занимает исключение. Состояние исключения в экономике как конкретном умении и конкретном благе не просто часть состояния исключения в политике (в жизни полиса) как благе более общем или часть состояния исключения в этике как благе благ. Состояние исключения работает в обратном направлении – от этики “вниз” к политике и экономике.
Но состояние исключения это не просто одна из категорий, которые мы исследуем. Состояние исключения касается также (если не в первую очередь) наших собственных аналитических категорий, при помощи которых мы исследуем. Будучи этнографами, мы постоянно имеем дело с исключительным (единичным, нетипичным, индивидуальным и “дивидуальным”), которое следует духу, а не букве репрезентативности, – и это выбор этнографа как сюзерена. Дело не только в том, что “ойкономический” анализ позволяет увидеть, каким образом семейно-родственные взаимоотношения в рамках “ойкоса” (“дома”) соединены с экономическими, политическими и этическими (включая религиозные) взаимоотношениями – подобно тому, как соединен с ними “дар” (тотальный социальный факт по М. Моссу) (Mauss 1990: 4). В случаях дачного хозяйства, семейного бизнеса, таежной заимки и восстановления монастыря как крестьянского дома – разные логики, но они части друг друга, подобно “дивиду”, части которого одновременно меньше личности и больше ее, так как распределены по многим пространствам и взаимоотношениям (Strathern 1988; см. также статью Л.Я. Рахмановой в наст. выпуске). Но поскольку это касается не просто предмета, но и методологии исследования, то здесь уместна поправка К. Леви-Стросса из его “Введения в работы Марселя Мосса”: “назвать социальный факт тотальным означает” не просто то, что “все под наблюдением есть часть наблюдаемого”, но и то, что сам “наблюдатель – часть наблюдаемого”. В ходе “социологического исследования” субъективность и объективность не преодолеваются, а делятся до бесконечности, и исследователь распределяет по исследуемой среде “все более… уменьшающиеся доли себя самого” (Levi-Strauss 1987: 29, 32).
Источники и материалы
Аристотель 1969 – Аристотель. Экономика / Пер. с греч. Г.А. Тароняна // Вестник древней истории. 1969. № 3. C. 217–242.
Аристотель 2018 – Аристотель. Политика / Пер. с греч. С.А. Жебелева, Т.А. Миллера. М.: АСТ, 2018.
Аристотель 2020 – Аристотель. Никомахова этика / Пер. с греч. Э.Л. Радлова. М.: Директ‐Медиа, 2020.
Колесов, Рождественская 1994 – Колесов В.В., Рождественская В.В. (ред.) Домострой. СПб.: Наука, 1994.
Ксенофонт 1902 – Ксенофонт. О хозяйстве // Домострой Сильвестровского извода: текст памятника с примечаниями, материалы для сравнительного изучения / Ред. А.Н. Чудинов. СПб.: Издание И. Глазунова, 1902. С. 74–94.
Ксенофонт 1935 – Ксенофонт. Домострой // Сократические сочинения / Пер. с греч. С.И. Соболевского. М.: Академия, 1935. С. 245–320.
Шелгунов 1895 – Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни. СПб.: издание О.Н. Поповой, 1895.
1 К. Поланьи приводит цитату из: Таунсенд Дж. “Диссертация о законах о бедных”.
2 “Ксенофонт: историк и философ” (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XVIА (32): 907–908).
作者简介
Nikolay Ssorin-Chaikov
Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
编辑信件的主要联系方式.
Email: nssorinchaikov@hse.ru
ORCID iD: 0000-0001-7521-6912
PhD, доцент
俄罗斯联邦, Saint Petersburg参考
- Afanasiev, A.N. 1850. Ob arheologicheskom znachenii “Domostroia” [On the Archaeological Significance of the “Domostroi”]. Otechestvennye zapiski 7: 33–46.
- Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. 2005. State of Exception. Chicago: University of Chicago Press.
- Agamben, G. 2011. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government. Stanford: Stanford University Press.
- Barth, F. 1959. Segmentary Opposition and the Theory of Games: A Study of Pathan Organization. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 1: 5–21.
- Bentham, J. 1791. Panopticon, Or the Inspection-House. Dublin: T. Payne.
- Cessario, R. 1996. Epieikeia and the Accomplishment of the Just. In Aquinas and Empowerment: Classical Ethics for Ordinary Lives, edited by G. Simon Harak, 170–206. Washington: Georgetown University Press, 1996.
- Cheal, D.J. 1988. The Gift Economy. London: Routledge.
- Englund, H. 2006. Prisoners of Freedom: Human Rights and the African Poor. Berkeley: University of California Press.
- Foucault, M. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. 1978. The History of Sexuality. Vol. I, An Introduction. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. 2007. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège De France (1977–1978). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Foucault, M. 2008. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collége De France (1978–1979). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
- Kolesov, V.V. 1994. Domostroi kak pamiatnik srednevekovoi kul’tury [Domostroi as a Literary Monument of Medieval Culture]. In Domostroi [Domostroi], edited by V.V. Kolesov and V.V. Rozhdestvenskaya, 301–357. St. Petersburg: Nauka.
- Kondratieva, T. 2006. Kormit’ i pravit’: o vlasti v Rossii XVI–XX vv. [To Feed and to Govern: On Power in Russia of the 16th–20th Centuries]. Moscow: ROSSPEN.
- Kotsonis, Y. 2014. States of Obligation: Taxes and Citizenship in the Russian Empire and Early Soviet Republic. Toronto: University of Toronto Press.
- Lambek, M. 2010. Toward an Ethics of the Act. In Ordinary Ethics: Anthropology, Language, and Action, edited by M. Lambek, 39–64. New York: Fordham University Press.
- Levi-Strauss, C. 1987. Introduction to the Work of Marcel Mauss. London: Routlege; Kegan Paul.
- Likhachev, D.S. 1985. Literatura “gosudarstvennogo ustroeniia” (seredina XVI v.) [Literature of the “State Building”]. In Pamiatniki literatury Drevnei Rusi: seredina XVI v. [Literary Monuments of the Ancient Russia (the Middle of 16th Century], edited by L.A. Dmitriev and D.S. Lihhachev, 5–16. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.
- Malinowski, B. 1922. Argonauts of the Western Pacific. London: G. Routledge & Sons, ltd., 1922.
- Marshall, A. 1890. Principles of Economics. London: Macmillan.
- Mauss, M. 1990. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London: Routledge.
- Merridale, C. 2013. Red Fortress: The Secret Heart of Russia’s History. New York: Metropolitan Books.
- Miller, D., ed. 2001. Home Possessions: Material Culture Behind Closed Doors. Oxford: Berg.
- Moore, H.L. 1992. Households and Gender Relations: The Modelling of the Economy. In Understanding Economic Process, edited by S. Ortiz and S. Lees, 131–148. Lanham: University Press of America.
- Paxson, M. 2005. Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village. Boomington: Indiana University Press.
- Polanyi, K. 1944. The Great Transformation. New York: Rinehart.
- Rakhmanova, L.Y. 2019. Rybaki i kontroliruiushchie instantsii na Obi: pravoprimenenie v teni lokal’nykh pravil igry [Fishermen and Supervisory Instances on the Ob’ River: Law Enforcement in the Shadow of Local Rules of the Game]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 45–60.
- Robbins, L.B. 1932. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan.
- Rogers, D. 2006. How to be a Khoziain in a Transforming State: State Formation and the Ethics of Governance in Post-Soviet Russia. Comparative Studies in Society and History 4: 915–945. https://doi.org/10.1017/S001041750600034X
- Schmitt, C. 1985. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Cambridge, MA.: MIT Press.
- Shestakov, S.P. 1901. Vizantiiskii tip “Domostroia” i cherty ego skhodstva s “Domostroiem” Sil’vestra [Bizantian Type of “Domostroi” and Its Similarities with the “Domostroi” by Sil’vestr]. Vizantiiskii vremennik VIII: 38–63.
- Slezkin, Y. 2019. Dom Pravitel’stva [The House of Government]. Moscow: Litres.
- Sobolevskii, S.I. 1935. Vvedenie [Introduction]. In Sokraticheskie sochineniia [Socratic Writings], 247–249. Moscow: Akademiia, 1935.
- Strathern, M. 1988. Gender of the Gift: Problems with Women and Problems With Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press.
- Tereshina, D. 2021. Managing Firms and Families: Work and Values in a Russian City. Munster: Verlag.
- Tyler, S. 1986. Post-Modern Ethnography. In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by J. Clifford and G. Marcus, 122–140. Berkeley: University of California Press.
- Weber, M. 1949. The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press.
- Wilk, R.R., ed. 2019. The Household Economy: Reconsidering the Domestic Mode of Production. London: Routledge.
- Yan, Y. 2012. The Gift and Gift Economy. In A Handbook of Economic Anthropology, edited by J.G. Carrier, 246–461. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Yanagisako, S.J. 1979. Family and Household: The Analysis of Domestic Groups. Annual Review of Anthropology 1: 161–205.
- Yudina, T.N. 2014. Novyi domostroi. Konstituiruiushchaia universal’naia perspektivnaia ekonomicheskaia sistema Rossii [New Domostroi: Consitutitive Universal Economic System of Russia]. Moscow: TEIS.
- Zabelin, I. 2019. Domashnii byt russkikh tsarei v XVI i XVII stoletiiakh: gosudarev dvor, ili dvorets [House life of Russian Tsars of the 16th–17th Centuries: The State Court or Palace]. Moscow: Litres.
- Zeitlyn, D. 2003. Gift Economies in the Development of Open Source Software: Anthropological Reflections. Research Policy 7: 1287–1291. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00053-2
补充文件