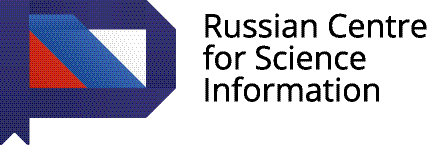Byzantine Satirical Dialogue as a Stage in the Historical Poetics of the Posthumous Narration
- Authors: Zuseva-Özkan V.B.1
-
Affiliations:
- A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 83, No 6 (2024)
- Pages: 17-29
- Section: Articles
- URL: https://ogarev-online.ru/1605-7880/article/view/272404
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024060026
- ID: 272404
Full Text
Abstract
The article considers two Byzantine satires, describing the descent into Hades (“Timarion” and “Mazaris’s Journey”), as a stage in the historical poetics of posthumous narration, or the narration from beyond the grave, i. e. the narration of a character who, in the conventional reality of the inner world of the work, is represented as a dead character. This paradoxical phenomenon, which is widespread in the literature of the 20th and 21st centuries, has been so far understudied in the diachronic aspect, from the perspective of its genesis and evolution. The article demonstrates both the continuity of the two works under study in relation to the “dialogues of the dead” by Lucian from Samosata, and the innovations made by their authors that bring “Timarion” and “Mazaris” closer to modern posthumous narrative not only on the motive-thematic, but also on compositional level. Special attention is paid to such elements as the motivation for the journey to the afterworld, the structure of the afterlife and its relationship with the world of the living, the degree of permeability of the border between the two worlds, the figures of the narrators, the combination of ancient and Christian ideas. A conclusion is made about the divergence of two lines of a previously uniform tradition and the formation of the genre of vision, on the one hand (when the narrator visits the afterlife while being alive and then returns from there), and the posthumous narration (when the narrator makes his journey while being dead, and his journey has only one vector), on the other hand.
Full Text
Предлагаемая статья, содержа довольно подробный анализ поэтики двух византийских сатирических диалогов – «Тимариона» (XII в.) и «Пребывания Мазариса в подземном царстве» (ок. 1415 г.), ставит целью рассмотреть их в рамках определенной традиции. Речь идет о нарративе мертвеца, или, согласно введенному нами ранее термину, о постум-нарративе [1], т.е. о повествовании персонажа, который в условной реальности внутреннего мира произведения представлен как персонаж мертвый (умерший, погибший). Это явление до сих пор рассматривалось в основном как принадлежность литературного процесса XX и XXI вв. с явной постмодернистской окраской [2]–[4], а попытки заглянуть глубже и исследовать генезис и эволюцию постум-нарратива остаются редкими и неубедительными [5]; [6]. По нашему мнению, такой тип наррации и, шире, литературного произведения вообще гораздо древнее и восходит к античности. Вероятно, истоки постум-нарратива следует искать в архаическом культе мертвых тотемистического характера, о котором много писала О.М. Фрейденберг [7, с. 47–49], а в доступных нам текстах эти истоки уже достаточно проявлены в жанрах путешествия в загробный мир и диалога мертвецов, которые соединились в произведениях Лукиана из Самосаты. Сопоставление лукиановских диалогов и современных постум-нарративных текстов [8] показывает, что позднейший «нарратив мертвеца» в аспектах мотивно-сюжетной структуры и модуса высказывания (по преимуществу сатирического) в огромной степени наследует «диалогам мертвецов» Лукиана (хотя в современных произведениях не путешествие на тот свет заключается в рамки «диалога мертвецов», а напротив, «диалоги мертвецов» оказываются частью такого путешествия). Следующий важный этап в исторической поэтике постум-нарратива соотносится с византийской сатирой, а именно с двумя повествованиями о сошествии в Аид: «Тимарионом» и «Пребыванием Мазариса в подземном царстве», которые, согласно существующему научному консенсусу (см., в частности: [9, с. 140–141, 149]; [10, c. 287]; [11, p. 618]; [12, р. 218–221]; [13]–[15]), испытали влияние жанра менипповой сатиры вообще и сочинений Лукиана в частности1. Далее мы попытаемся установить, с одной стороны, преемственность двух исследуемых произведений по отношению к «диалогам мертвецов» Лукиана, а с другой – совершаемые их авторами нововведения, сближающие «Тимариона» и «Мазариса» с современными постум-нарративными текстами уже не только на мотивно-тематическом, но и на композиционном уровне (чего у Лукиана еще нет).
Как писала О.М. Фрейденберг, «рассказ в преисподней, обозревание земных пороков с небесной высоты, путешествие на небо становятся топикой сатиры; пережитое на том свете передается в монологической форме. Так, по-видимому, судя по Варрону и Лукиану, писал Менипп свои сатиры. Таков и византийский сатирический роман. Форма его диалогическая. Она состоит сперва из вопросов и ответов, а затем уже переходит в личный рассказ. Композиция такова: герой описывает свою болезнь и смерть, а дальше – свое пребывание в царстве смерти и вереницу встреченных там лиц, и в заключение – возврат к жизни» [10, c. 287]. Исследовательница также подчеркивает, что у Лукиана «наррационный элемент уже отстоялся» («Его диалоги утратили всякую сценичность, и мим сказывается у него своими генетическими чертами, но не прямой действенной формой» [7, c. 309]); еще в большей степени это можно сказать о двух анализируемых здесь текстах, которые при этом сохраняют следы нарративной архаики – не в последнюю очередь в «отождествлении» автора и героя повествований2.
«Тимарион» включает небольшое диалогическое «обрамление», задающее ситуацию личного рассказа заглавного героя – ситуацию, типичную и для ряда других жанровых разновидностей византийской литературы, в частности, любовного романа (см., например, «Повесть об Исминии и Исмине», приписывающуюся Евматию Макремволиту и созданную в том же XII в.) и восходящую к античности, к воспоминаниям о древней устной природе сказывания и в комплекте с древней же нерасчлененностью авторской и геройной ипостасей. Как писал А.В. Михайлов даже о конце эйдетической эпохи, автор и герой «близки, потому что не успели разделиться, размежеваться <...> утвердиться каждый в своей особости» [21, c. 346]. Недаром для ранних романов (и древней литературы вообще3) характерно именно повествование от первого лица; так написан и «Сатирикон» Петрония, и греческие романы: «Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона, «Эфиопика, или Теаген и Хариклея» Гелиодора, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия. В последнем рассказчиком выступает сам герой, Клитофонт, причем его повествование оказывается невероятно развернутой репликой в беседе с автором. Как указывает И.П. Стрельникова, «эгонарративная форма», или «использование первого лица, где автор совсем не обязательно идентичен рассказчику, почти непременная традиция жанра» античного романа [23, c. 341]. П. Грималь указывает на связь этой традиции с диалогами Платона и Ксенофонта [24]; к этой же традиции апеллирует и О.М. Фрейденберг, говоря о «двуприродности античного способа повествования» и о «своеобразной структуре античных литературных жанров» [7, c. 271]. Исследовательница вскрывает происхождение наррации и тем самым объясняет преобладание повествования от первого лица в античности: «По большей части в самом этом “я-рассказе”, в активном “я”, лежит пассивное “я”, ставшее предметом повествования. Так создается двойная система античного рассказа, в первое время неразрывная, когда субъектное “я” еще остается, но внутри себя, в косвенной позиции, заключает “я” объектное. Форма такого первоначального рассказа – прямая речь; сперва предметом наррации она имеет самого субъекта рассказа. Ее содержание – подвиги и страдания» [7, c. 268]. Эта основа еще ощущается в византийской литературе, преемственной по отношению к античной.
С.В. Полякова отмечает также зависимость композиции «Тимариона» от диалогов Лукиана: «Мы имеем в виду появление в завязке любопытного друга посетителя неба или аида, который атакует его своими вопросами, стимулируя этим и подталкивая его рассказ <…> когда очевидец поведал уже обо всем, <…> диалог внезапно обрывается ссылкой на поздний час или какой-нибудь другой повод, чтобы разойтись по домам» [9, c. 138]. «Пребывание Мазариса в подземном царстве», хотя и имеет жанровый подзаголовок «Разговор мертвых», композиционно довольно далеко отстоит от лукиановской формы: «Первая часть “Пребывания Мазариса в подземном царстве”, несмотря на заголовок “Разговор мертвых” (Διάλογος νεκρικός), представляет собою по форме не диалог, а связный рассказ самого автора, в котором, как в ораторской речи, появляется иногда обращение к слушателям (ω παρώντες или ώ άνδρες). Однако действия в “Мазарисе” мало, и преобладает изложение разговоров Мазариса с различными лицами в загробном царстве. Во второй части, озаглавленной “Сновидение после возвращения на землю”, передается разговор Мазариса с Голоболом, явившимся ему во сне. Третья часть содержит три письма: 1) Мазариса из Пелопоннеса Голоболу в Аид; 2) Голобола врачу Никифору Дуке Палеологу Калаке (по берлинской рукописи – Малаке) из Аида в Пелопоннес; 3) ответ последнего. Эта часть также лишь очень условно может быть названа диалогом» [20, c. 319]. То есть текст содержит три достаточно разнородных с точки зрения композиционных форм речи фрагмента: во-первых, «я»-рассказ героя, испытавшего жестокую болезнь и посетившего Аид, возможно, во сне, где он беседовал с мертвецами и прежде всего с Голоболом; во-вторых, определенно названное «сновидением» общение с тем же Голоболом; в-третьих, три письма, принадлежащие трем разным лицам (герою, Голоболу, Палеологу). Диалогизм имеет место, но весьма своеобразный – эпистолярный в третьем из названных фрагментов (где диалог превращается в полилог), воображаемый во втором (герой видит Голобола и беседует с ним в своем сне) и более или менее схожий с лукиановским – тоже довольно условным (см., например, приведенное выше мнение О.М. Фрейденберг) – в первом.
Опять же, как и у Лукиана, у обоих византийских авторов рассказ о путешествии в загробный мир не передается мертвому повествователю в своей тотальности (как это происходит в современном постум-нарративе), особенно в «Мазарисе», и повествующий субъект совершает путешествие в загробный мир не мертвым (еще одно conditio sine qua non постум-нарративных текстов на поздней фазе развития) – но и не вполне живым, как это было, например, в лукиановском диалоге «Менипп, или Путешествие в подземное царство». В обоих произведениях герои попадают в Аид на время – и в обоих же обладают особым онтологическим статусом, связанным с мотивом болезни и, можно сказать, пограничным.
В «Мазарисе» в первой же фразе упоминается «страшная болезнь, от которой не был предохранен ни один возраст» [25, c. 329] и которая напала «и на меня с самой жестокой яростью и, как внезапная гроза с громом и молнией, она била и терзала в течение двадцати одного дня мое тело то лихорадочным жаром, то внезапными судорогами, то головокружением с обмороками, то расслаблением суставов» [25, c. 330]. Герой-рассказчик уже начал было выздоравливать и легкомысленно встал, «как она снова охватила меня с такой силой, что против моего желания толкнула меня к самому порогу Аида» [25, c. 330]. Вороны своим карканьем будто предсказали герою смерть, и «на другой день во сне я был похищен, не знаю кем, нагой ли или завернутый в саван <…> – об этом я тоже не имею представления» [19, c. 330]. Из этого пассажа остается неясным, попал ли герой в Аид только в своем сонном воображении – в лихорадочном бреду, или же умер от болезни во время сна. Более того, и обратный путь оказывается вполне возможным, ср.: «<…> А он, схватив меня за руку, дрожащим голосом говорит мне: “Я слыхал от честного Голобола, что ты собираешься опять отправиться к живым людям <…>”» [25, c. 344]; «<…> явился и музыкальный корифей Лампадарий, неся в руке зажженный светильник, и прежде всего запел песню мертвых: “Аид отпускает дрожащего от страха Мазариса”» [25, c. 344]. Единственное, что будто бы препятствует герою, – это спешащие со всех сторон обитатели Аида, стремящиеся всё выспросить про живых. Голобол говорит ему: «<…> и день и ночь будут расспрашивать тебя и выпытывать о тех, которые пребывают еще там наверху в живых, как каждый из них живет, что делает и какую должность занимает. Если это случится – да не будет этого, – ты никогда не уйдешь из ада, как и я сам, вплоть до того времени, как прозвучит труба последнего суда» [25, c. 347]. Во второй части, т.е. в «Сновидении после возвращения на землю, или Сообщении, посланном Голоболу из Пелопоннеса, из Тенара, в Аид», герой сокрушается, что по совету Голобола «и к жизни вновь вернулся, и всем домом переселился в Пелопоннес» [25, c. 347]. Он настолько недоволен своим существованием и терпит столько бед, что думает вновь «бежать в ад» [25, c. 348]. Вообще, между миром живых и миром мертвых как будто бы нет непреодолимой границы: письмо или посылку можно отправить с тем, кто собирается умереть («Как ты знаешь, вблизи Спарты в Лаконике, на расстоянии двух дней пути, есть Тенар; в этом Тенаре идут вверх и вниз легкие челноки, перевозящие, как говорят, души умерших. С одним из них напиши мне <…>» [25, c. 349]). Однако в третьей части, в письме Голобола к Никифору Палеологу сообщается, что Голобол «вел разговор во сне с моим лучшим другом Мазарисом» [25, c. 355], т.е. во втором и третьем фрагментах «Мазариса» поддерживается конвенция сна как условия для сообщения двух миров. Итак, путешествие Мазариса в Аид и обратно, а также его обмен письмами с мертвецом мотивируются болезнью и сном, причем во второй и третьей частях – более явно, чем в первой, где настойчиво повторяется мотив незнания героем своего онтологического статуса.
В «Тимарионе» мотивировка путешествия в Аид является не просто деталью или формальной завязкой, но основой всего стройного сюжета. Встретившись с другом Кидионом на константинопольской улице, Тимарион отвечает на его вопрос о том, почему он долго не возвращался, развернутым рассказом о своем путешествии сначала в Фессалоники, а потом в Аид. Оказывается, что после ярмарки в Фессалониках (она описывается достаточно подробно, причем вводится мотив разглядывания мира с возвышенности, типичный для постум-нарративной традиции начиная с Лукиана и связанный с тем «взиранием на причудливые “чудеса”, с дивованием», которые, по Фрейденберг, объединяют в античности тексты о путешествиях в загробный мир и о путешествиях в дальние страны [7, с. 277]) он сильно разболелся – его «скрутила жестокая лихорадка» [26, c. 370]. Как только ему стало немного лучше, он недооценил опасность («<…> на деле облегчение оказалось лишь началом страдания и предчувствием смерти» [26, c. 370]), как и Мазарис, и пустился в обратный путь, но по дороге ему стало совсем плохо: Тимариона одолел столь сильный понос, что вместе с ним его организм «терял один из основных элементов» – желчь. Именно на этом выстраивается сюжет: сначала потеря желчи становится причиной для того, чтобы демоны, следующие медицинской доктрине о четырех гуморах (без одной из основных жидкостей человек жить не может), заставили душу Тимариона насильственно расстаться с телом, затем в Аиде знаменитый ритор Феодор Смирнский, некогда учитель Тимариона, обещает устроить тяжбу с этими демонами на подземном суде и отправить Тимариона обратно в мир живых, так как они неправильно поняли доктрину («<…> желчь входила в состав извержений. <…> они представляли собой не элементарную чистую желчь, но обычные экскременты, смешанные с желчью <…>» [26, c. 382–383]), причем к тяжбе привлекаются знаменитые врачи Асклепий и Гиппократ и судьи выносят желанный для Тимариона приговор, разрешая ему вернуться на землю. То есть причина, по которой Тимарион попадает в Аид, оказывается важна на всем протяжении повествования, с ней связаны основные события произведения и его финал. Кроме того, онтологический статус Тимариона благодаря такой мотивировке путешествия в Аид оказывается двойственным: насильственно расставшись с его хладным телом, его душа отправляется в загробный мир, но там он не становится «своим», не попадает в ряды мертвецов, а предстает своего рода невольным гостем и получает редчайшую возможность возродиться к жизни – хотя простое бегство из Аида, как подчеркивается, невозможно.
Отметим, однако, что, хотя трактовка путешествия в Аид автором «Тимариона» весьма оригинальна, она все-таки не избегает такого элемента, как сон героя, – «умирает» он именно ночью, во сне: «Здесь сон, отец пресловутой и…4 смерти, охватив меня, не знаю, как и рассказать об этом, увлек за собой в аид. Я дрожу от страха, когда вспоминаю все пережитое, и ужас лишает меня голоса»; «<…> я погрузился в последний, видимо, сон. <…> еще до полуночи к моей постели, лежа на которой я только начал забываться, спустились по воздуху темные обликом тенеподобные существа»; «Была это явь или сон, я не сумею сказать, ибо от страха лишился способности ясно мыслить. Во всяком случае, видение было таким отчетливым и определенным, что до сих пор словно стоит перед моими глазами» [26, c. 371]. Таким образом, амбивалентность онтологического статуса героя связана еще и с тем, что нет окончательного указания на то, протекают ли события наяву или во сне.
Кругозор героев-рассказчиков в постум-нарративе и происходящие с ними события непосредственно связаны с мотивировкой их путешествий в Аид и обратно. Как уже говорилось выше, в случае «Мазариса» между тем и этим мирами как будто бы нет четкой границы, о чем свидетельствует и легкость переходов туда и обратно, не обставленная практически никакими условиями. Отсюда проистекает то обстоятельство, что мир мертвецов практически не отличается от мира живых.
Мертвые не только не обрели смирения и забвения, но полны жгучего любопытства по отношению к тому, как обстоят дела наверху; их терзают зависть, ревность, честолюбие, мстительность и прочие недобрые чувства: «<…> он сгорал от честолюбия и зависти, его мысли были заняты только одним и направлены на то, чтобы узнать точно все, что делается среди живых» [25, c. 331]; «И подобно тому, как при жизни наверху добрая слава <…> вызывает зависть, <…> так и здесь, в Аиде счастливая жизнь, почтение <…>, и блеск, и наслаждение, предложенные им богами, являются “занозой в теле” тех, которые <…> плохо вели свои дела в жизни. Поэтому старый священнослужитель завидует другому, <…> сатрап – сатрапу, министр – министру, <…> адмирал – адмиралу, судья – судье, ритор – ритору, врач – врачу <…>»5 [25, c. 346]. За гробом Мазарис попадает в ту же придворно-чиновничью среду, в которой находился при жизни. Огромную часть сочинения занимают жалобы самого Мазариса и Голобола, а также других мертвецов, на соперников по фавору у императора, на неспособность достичь высокого положения или удержать его, на распутных и прожигающих жизнь детей, на неприятности от женщин. Герой-рассказчик встречает исключительно представителей императорского двора, причем очевидна сатира на конкретных лиц (отсюда многочисленные пассажи, сопоставляющие персонажей с реальными историческими лицами, в научных трудах, например: [18]; [20, с. 327–328]; [27, c. 263]). Собственно, создается впечатление, что Аид населяют только византийцы – современники автора.
Если у Лукиана заданы мотивы всеобщего равенства в смерти и невозможности узнавания, поскольку один скелет практически не отличается от другого [28, т. 1, с. 328–329, 398], то у Мазариса мертвецы облечены плотью (хотя мотивы сходства и затрудненности узнавания все же прочитываются в «стертом» виде – видимо, как дань традиции): «<…> я попал в большую и глубокую лощину, полную бесчисленного множества людей, не молодых и не старых, бывших как бы одного возраста, различающихся только выражением их лиц; но у каждого сохранился на лице отпечаток, наложенный прожитой им жизнью. Все они были нагими, одни – покрыты кровавыми рубцами и, по-моему, испещрены ими по числу их прегрешений, другие же были без этих рубцов <…> мне повстречался человек в рубцах, поросший сзади черными волосами, с большим и изогнутым, как у ястреба, носом, с остриженной головой и окладистой бородой <…>» [25, c. 331] и т.п. Когда Голобол жалуется на своих соперников, он говорит, что на все готов, лишь бы они не «узнали искусства составлять бумаги» императора, поэтому все хрисовулы и высочайшие распоряжения, им составленные, он хотел бы забрать с собой в могилу – а там хоть пусть гробокопатели заставят его два раза «ложиться в могилу»: «Если бы все это сожгли со мною и если бы у меня от всего тела, буде огонь его истребил все целиком, остались, как говорят, одни только зубы, то и ими я бы защищался от своего проклятого соперника» [25, c. 336], – таким образом, тело у этого мертвеца, очевидно, есть. Когда появившийся Падиат «разбил голову честного Голобола, <…> мозг тотчас же, по Гомеру, “из носу полился”» [25, c. 340]: тут не просто телесность и материальность, а уже натурализм. Не меньшая его степень явлена в словах «бабника Антиоха», который и в виде мертвеца мечтает жениться на своей возлюбленной Анатолико, причем его в равной степени привлекают как ее красота, так и богатство: «<…> скажи мне все по правде, сохранилась ли ее красота и ее богатство? Я очень хочу, как только она придет сюда, жениться на ней» [25, c. 342]. Мотив жизни после смерти, присутствовавший и у Лукиана [28, т. 1, с. 330, с. 382]; [28, т. 2, с. 119], доведен здесь до абсурда. Присутствует и своего рода неопределенность: во второй части Голобол сообщает Мазарису, что идет «лечить одного топарха, <…> у которого болят ноги. А душа у него раздваивается <…>: продолжать ли ему проявлять неизменную преданность государю, которую он теперь проявляет лживо, <…> или последовать и ему за другими топархами, ступив на путь мятежа и неверности» [25, c. 349–350]: Голобол, таким образом, отправляется исцелять и душу, и тело. Причем не вполне понятно, мертв ли топарх, и тогда в Аиде он пребывает целиком, телом и душой, или же Голобол запросто отправляется из Аида на землю лечить живого топарха (опять же, и тело его, и душу)6.
В Аиде, как и на земле, царствует золотой телец: «Здесь никому нет дела до тебя, такого бедного и презренного человека, такого ничтожества; ведь сверх всего ты не предъявил и двух оболов за переправу с поверхности земли сюда <…> когда ты <…> станешь богатым, тогда ты легко придешь в Аид <…> с вызывающей удивление толпой провожающих и с величайшей славой» [25, c. 331]. Хотя у Лукиана в диалоге «Переправа, или Тиран» Харон и Клото не хотят переправлять мертвого без оплаты [28, т. 1, с. 353], а в сочинении «О скорби» высказывается мысль, что зря живые «торопятся положить умершему в рот обол, который должен будет послужить платою лодочнику за перевоз», поскольку «не гораздо ли лучше было бы не иметь вовсе возможности уплатить провозную плату: ведь таким образом, ввиду отказа перевозчика принять их, мертвецы были бы отправлены обратно наверх и вернулись бы в жизнь»7 [28, т. 2, с. 430], у него все же отчетливо выражен мотив тщеты всего земного и материального за гробом, например, в «Разговорах в царстве мертвых»: «<…> увидишь богачей, сатрапов и тиранов такими приниженными, такими невзрачными, узнаваемыми только по своим стонам <…>» [28, т. 1, с. 369]; или: «И еще сильнее рассмеялся бы ты при виде царей и сатрапов, нищенствующих среди мертвых и принужденных из бедности или продавать соленье, или учить грамоте; и всякий встречный издевается над ними, ударяя по щекам, как последних рабов. Я не мог справиться с собой, когда увидел Филиппа Македонского: я заметил его в каком-то углу – он чинил за плату прогнившую обувь. Да, на перекрестках там нетрудно видеть и многих других, собирающих милостыню, – Ксеркса, Дария, Поликрата <...>» [28, т. 1, с. 330].
Мотив жизни после смерти, как и у Лукиана, в «Мазарисе» очень отчетлив, а в письме Никифора Палеолога, еще живущего на земле, в Аид Голоболу выражен прямо: «Я думал, что в письме ты мне напишешь, как идут дела в Аиде, какой жизнью живешь ты и в какой разряд попал ты там, числишься ли ты среди лучших врачей или находишься в числе многовлиятельных ораторов, или занимаешься там одновременно и тем и другим, как ты занимался при жизни <…>; что ты вместе с тем сообщишь, какое из этих занятий там больше уважают: искусство оратора или науку врача; а кроме того, опишешь мне те удовольствия, которыми ты насладился, придя туда <…>» [25, c. 356].
Подобие Аида земной жизни впрямую проговаривается и героем-рассказчиком в его беседе с Голоболом: «<…> я думал, что пребывание в Аиде должно быть лучше и менее печально, чем та жалкая жизнь, из которой я ушел и радостно последовал за тем, кто темною ночью до срока похитил меня. Но если и в Аиде положение дел такое же, как и в земной жизни, <…> то я опять хочу бежать на землю <…>» [25, c. 333]. В «Мазарисе» примечательно, что герой-рассказчик переходит в Аид легко во всех смыслах – и пространственном, и моральном: в этом сочинении отсутствует лукиановский мотив тоски по земной жизни [28, т. 1, с. 371], невозможности отрешиться от ее прелести – мотив, чрезвычайно значимый и в современных постум-нарративах и ведущий свое происхождение из гомеровой «Одиссеи» – того знаменитого ее эпизода в песни XI, где Ахилл соглашается лучше быть распоследним рабом на земле, чем царем в Аиде. Земной мир в «Мазарисе» настолько плох, что герой практически бежит в Аид, а потом так же бежит из Аида, когда видит, что его дела – в самом приземленном и примитивном смысле (достаток, почет и пр.) – там будут обстоять ничем не лучше.
Если в чем-то Аид и отличается от земной жизни, то это неподкупность суда: в «Мазарисе» сохраняется лукиановский мотив особого загробного суда [28, т. 1, с. 327] – в Аиде судят «по справедливости», «неподкупно, не в силу расположения, не ради выгоды» [25, c. 334]. Возникает и мотив другой преисподней, тоже присутствующий у Лукиана («Разве ты боишься умереть от недостатка питья? Я не знаю другой преисподней, кроме этой, и не слыхал про смерть, переселяющую мертвецов отсюда в другое место» [28, т. 1, с. 390]): «Какие же неприятности или какой вред, – сказал я, – могут быть причинены тебе тут? Ведь ты уже мертв и пребываешь в пределах Аида» [25, c. 334]. Обнаруживается, что мертвецов вполне может ожидать ухудшение их положения – например, Плутон и Персефона могут «в виде жестокого и тяжелого наказания» не дать выпить Голоболу воды из реки Леты, чтобы он не «забыл обо всем хорошем», чем он «наслаждался в прежней жизни»: «Ведь это тяжелая пытка – помнить о былых удовольствиях» [25, c. 334].
Хотя «Мазарис» написан в XV в. в Византии и герой встречает в Аиде исключительно своих современников, вся обстановка здесь списана с античных представлений, а христианские идеи практически отсутствуют даже в виде отголосков (редкое исключение – парафраза из Евангелия от Матфея (Мф 5:10): «<…> я ожидаю, по словам божественных евангелий, вкусить всякое благо <…>» [25, c. 342]) – такова сила традиции и памяти жанра – античного, лукиановского. Одновременно заметим, что и античные персонажи здесь не появляются в сколько-нибудь отчетливом виде: мельком упоминаются Плутон, Персефона, Минос, Харон, Эак и Радамант, но исключительно в качестве «реквизита». Единственная «настоящая», ощутимая и интересующая автора реальность в «Мазарисе» – это реальность Византии первой четверти XV в. И в этой реальности важнейшими действующими лицами являются врачи (сам Голобол – врач, его письмо в третьей части адресовано «славнейшему из врачей господину Никифору Палеологу», а ответное письмо этого врача Голоболу завершает «Мазариса» в целом) и риторы – а отнюдь не герои, цари и философы, как у Лукиана.
В высшей степени примечательно, что среди нарисованной сплошной черной краской действительности – и земной и загробной – есть кое-что положительно выделяющееся: это сила слова, поэзия и риторика. Голобол просит Мазариса, собирающегося возвратиться к жизни, передать «приветствие и пожелание радости» благороднейшему Асану8: «Я и в Аиде не забыл, красноречивейший из людей, твоих золотых поэм. <…> По ночам я рассказываю великому Плутону и Персефоне все то, что ты так ясно изложил о пробуждении ныне спящих. А днем я с удовольствием излагаю Миносу, Эаку и Радаманту содержание тех 69 сочинений, которые ты неутомимо писал в течение всей своей жизни, избегая варварских и искаженных выражений, не говоря уж об их мудрости и ясности. И театр я наполняю драматическими произведениями о риторах и философах, причем одни из слушателей скачут от удовольствия, другие сардонически усмехаются, а иные наполняют воздух криками и умоляют Клото до срока перерезать нить на веретене, назначенную для тебя, с тем чтобы ты скорее прибыл в Аид. Все охвачены страстным желанием увидеть тебя и из твоих уст услышать твои чудесные декламации» [25, c. 346].
Хотя в последних фразах присутствует своего рода ирония (пусть поэт скорее умрет), патетика фрагмента в целом вполне серьезна и в своем роде исключительна. Кроме того, само возвращение Мазариса в мир живых происходит в немалой степени благодаря риторике Голобола, который всячески поносит Аид, открывает Мазарису, что он вполне еще может вернуться в мир живых («<…> по его словам, я вновь воскресну и во второй раз умру» [25, c. 332]), и указывает ему путь («<…> в Лаконии находится Тенар, а он расположен вблизи от входа в Аид <…>» [25, c. 332]). То, что именно Голобол оказывается проводником героя-рассказчика обратно к жизни, недвусмысленно подчеркивается инвективой Мазариса во второй части (где он оказывается горько разочарован своей второй земной жизнью): «<…> ты, злодей, все-таки надул меня, говоря: “Уходи опять наверх к живым <…>” <…> И смотри теперь, как я, уступая твоим частым, но полным обмана советам, прельщенный твоими высокопарными заявлениями [Курсив мой. – В.З.-О.], <…> как я и к жизни вновь вернулся, и всем домом переселился в Пелопоннес» [25, c. 347].
Фигура живущего в Аиде друга-проводника, выводящего героя-рассказчика из загробного мира, еще раньше и еще ярче была выведена в «Тимарионе». Если в «Мазарисе» риторика Голобола (впрочем, весьма ограниченная) действует на самого героя, то в «Тимарионе» речь Феодора Смирнского (который, как и Голобол, соединяет врачебное и риторское ремесла) произносится в рамках тяжбы с демонами, оторвавшими душу героя-рассказчика от его тела, и влияет на высокий подземный суд и ареопаг знаменитых врачей. Сила его слова оказывается такова, что нарушает естественные законы и позволяет мертвецу вернуться к жизни – что в «Тимарионе» далеко не так просто, как в «Мазарисе», где препятствий тому как бы и нет. Прежде чем подробно рассмотреть образ Феодора мы должны, таким образом, обратиться к условиям внутреннего мира произведения.
Поскольку повествование здесь происходит ретроспективно, т.е. прошло некоторое время после смерти и воскресения героя-рассказчика (тогда как в «Мазарисе» повествование практически параллельно событиям – временной зазор между ними минимален: протагонист рассказывает о том, что с ним происходит, кого он видит в загробном мире и с кем ведет беседы, по мере того, как всё это осуществляется, и зачастую переходит из режима рассказа в режим показа), в «Тимарионе» встречаются парадоксальные формулы, характерные для постум-нарративов XX в. и представляющие собой, по Р. Барту, казалось бы, «невозможный акт высказывания», «уникальную энантиосему: означающее выражает означаемое (Смерть), которое находится в противоречии с фактом высказывания» [31, c. 453], вроде таких: «До поры до времени <…> мое жалкое обессиленное тело это выдерживало, но, когда мы приблизились к Гебру, самой знаменитой реке во Фракии, вместе с путешествием оборвалось и мое существование: мне не суждено было жить дольше» [26, c. 370]; «На пороге светлого и темного пределов мы провели двое суток, а с наступлением третьих встали, как сказал бы живой, почти с петухами <…>»9 [26, c. 380].
Эта острота самого способа рассказывать соответствует остроте переживаний героя, отчасти связанной с мотивом насильственного отторжения его души от тела, которое не готово с ней расстаться, – тела еще вполне жизнеспособного, как покажет далее Феодор Смирнский. Если в «Мазарисе» неясно, кто похищает героя из постели (он отговаривается незнанием), то в «Тимарионе» фигуры «демонов-проводников» к смерти выписаны достаточно подробно (они даже получают имена Никтион и Оксибант). Это «тенеподобные существа», которые словно налагают оковы на имеющего умереть «то ли своим внушающим ужас видом, то ли благодаря какой-то тайной силе» [26, c. 371]. Они не стихийные существа, а, как уже было сказано выше, руководствуются учением о четырех составляющих организм элементах. Придя к выводу, что Тимарион потерял из-за поноса всю свою желчь, они командуют: «<…> следуй за нами и, как мертвец, соединись с мертвыми» [26, c. 371]. Благодаря их волшебству герой-рассказчик, «хотя и против воли», следует за ними в полет и несется по воздуху, «лишенный тяжести, не делая движений ногами», а затем, «нисколько не намокнув», переправляется за ними через реку Ахеронт и приближается «к какому-то отверстию в земле» [26, c. 371] – традиционный элемент античных и византийских повествований о путешествии на тот свет: своего рода «колодцы», или порталы, открываются рядом с легендарными географическими локусами вроде, например, мыса Тенар в «Мазарисе», рядом с пещерой, через которую, согласно мифу, Геракл вывел из Аида Цербера, или Трофониевой пещеры у Лукиана (см. «Менипп, или Путешествие в подземное царство»).
Как и персонажи Лукиана, Тимарион всячески упирается на пути в Аид: «Я стал сопротивляться, руками и ногами цепляясь за края колодца <…>» [26, c. 371], – и думает о бегстве, которое, как подчеркивается, невозможно (ср. с мотивом побега из послесмертия у Лукиана [28, т. 1, c. 394]): железные ворота закрывают вход в подземное царство, и «никому невозможно спастись отсюда бегством» [26, c. 371–372]. Перед воротами Тимарион видит Кербера и «подобных теням мрачного вида привратников» [26, c. 372]. Далее, передвигаясь внутри Аида, Тимарион наблюдает Елисейские поля и Асфоделев луг. Таким образом, автор «Тимариона» в большей степени следует установившимся еще в античности канонам описания Аида, его топографии, чем будет это делать автор «Мазариса». Кругозор героя-рассказчика существенно шире: в Аиде он встречает, согласно античной традиции, философов («Я видел Парменида, Пифагора, Мелисса, Анаксагора, Фалеса и других учредителей философских школ; все они спокойно сидели рядом, мирно и без споров беседовали друг с другом <…>. Только Диогена все с отвращением сторонились <…>» [26, c. 384]), риторов и софистов (Полемона, Герода, Аристида), героев (Катон, Брут и Кассий) и, так сказать, антигероев, или знаменитых злодеев, которые копаются в навозе – видимо, в наказание (Александр из Феры, Нерон), а также – что является нововведением автора «Тимариона» – великих врачей античности: Гиппократа, Галена, Эрасистрата (и мифологического Асклепия).
К этим людям античности, из коих некоторые появляются уже у Лукиана (в частности, конечно, киник Диоген), автор «Тимариона» добавляет византийцев, в основном XI столетия. Это философ Иоанн Итал, вступающий в драку с Диогеном и выведенный как «кичливый», «злоречивый», «завистливый» и «легкомысленный» [26, c. 384] человек, недостойный собрания античных философов, которые не желают принимать «галилеянина», т.е. христианина, в число тех, «чья жизнь была отдана познанию постижимой рассудком мудрости» [26, c. 384]. Это, конечно же, Феодор Смирнский, спаситель героя-рассказчика, о котором подробнее мы скажем далее. Это Михаил Пселл, которого принимают как своего и софисты, и философы античности. Это военачальник Филарет из Армении (Варажнуни), который показан в обществе правителей-злодеев. Это император Роман IV Диоген («Диоген из Каппадокии»), которому уделено довольно много места и участь которого иллюстрирует муки Аида, а также некий «старик из Великой Фригии» – личность неидентифицированная. Наконец, это император Феофил, которого автор «Тимариона» вводит в число загробных судей вместо Радаманта: суд у него творят Минос, Эак и Феофил, поскольку «теперь, когда галилейская вера распространилась по всей земле и подчинила себе и Европу, и большую часть Азии, провидению угодно было присоединить к прежним эллинским судьям одного христианина» [26, c. 377]. Причем оказывается, что «при каждом христианском императоре есть ангел, который руководит его поступками. И сюда, в аид, они следуют за императорами <…>» [26, c. 379].
В «Тимарионе» гармонично соединяются приметы античного представления об Аиде и черты современности (авторской) – особенность, характерная для постум-нарративов XX и XXI вв. В этом сочинении меньше злободневности и сатиры «на лица», чем в «Мазарисе», и, более следуя духу Лукиана, автор иронизирует над мироустройством в целом. Отсюда и состав событий: если в «Мазарисе» кумулятивно нанизываются встречи и разговоры героя-рассказчика с мертвецами и этот кумулятивный ряд введен внутрь цикла «смерть – нахождение в Аиде – возвращение к жизни», но цикл этот являет собой простую рамку (приоритет – за разговорами), то в «Тимарионе», напротив, встречи с мертвецами составляют своего рода фон, а основной нарративный интерес заключен в циклической последовательности смерти и воскресения героя-рассказчика, внутри которой наиболее значим эпизод тяжбы с демонами – от ее исхода и зависит возможность возвращения на землю. Таким образом, мотив подземного суда, частотный уже у Лукиана, становится здесь сюжетообразующим.
Как уже было сказано выше, героя спасает встреча с его бывшим учителем Феодором Смирнским (лицо историческое). Поначалу Тимарион не узнает его (ср. появляющийся у Лукиана мотив затрудненности / невозможности узнавания мертвецов) и ужасается его «изможденности» и «худобе», но сам Феодор считает, что смерть весьма ему к лицу: «Я обуздал свой прожорливый желудок кресс-салатом, мальвой и асфоделем и теперь только понял правоту мудрого беотийца. Ведь люди не знают,
“что на великую пользу идут асфодели и мальва”.
Коротко говоря, прежняя моя земная жизнь – это были софистические ухищрения и радующая толпу словесная игра, теперешняя же – философия и подлинное знание, чуждое пустословия и суетного тщеславия» [26, c. 375].
Как нетрудно заметить, здесь развивается античный мотив жизни после смерти, по-лукиановски поданный в комическом виде, как и в таком, например, пассаже: «А божественный Гален <…> не участвует сейчас в совете врачей; причина <…> – его книга “О различных видах лихорадок”. Теперь он сидит где-нибудь в углу и, спрятавшись от сутолоки и шума, восполняет пробелы в своем сочинении. Как-то он даже сказал, что дополнения будут больше того, что уже написано» [26, c. 377].
Но, хотя жизнь в Аиде превозносится Феодором как жизнь истинная, он обещает Тимариону поддержать его жалобу на демонов: «<…> я сделаю для тебя даже то, что превышает мои силы, и могу смело пообещать, что ты покинешь аид, чтобы жить во второй раз и обрести столь желанное тебе воскресение. Смотри только, не забудь прислать мне с земли все, по чему я соскучился – моей любимой еды» [26, c. 376] (то ли нарочно допущенное противоречие предыдущей похвале умеренности, то ли случайное). Хотя изображение Феодора не лишено комических черт (например, произнося речь, он раздувает щеки, чтобы придать себе важности), именно его риторическое искусство – как и врачебные знания – спасает героя-рассказчика. В своей речи Феодор обращает внимание судей на то, что душа Тимариона была прикреплена в момент смерти к еще вполне жизнеспособному телу и что из него вышла не вся желчь как первоэлемент человеческого организма, а всего лишь ее часть в составе смеси с кровью и экскрементами. Так что здесь сила слова спасает героя-рассказчика, способствует его воскресению еще более отчетливо, чем в «Мазарисе», хотя в «Тимарионе» переход границы между мирами значительно труднее.
В «Тимарионе», как и в «Мазарисе», имеют место натурализм, материальность и телесность, но развивается здесь и лукиановский мотив соотношения тела и души, в позднейшем сочинении проигнорированный. У Лукиана этот вопрос в разных произведениях решается по-разному, но, в общем, он часто описывает мертвецов как трудно отличимые друг от друга скелеты и как тени, долженствующие представлять души умерших. В «Тимарионе» тенями являются демоны-проводники, тогда как мертвецы и судьи имеют обычный человеческий вид – разве что менее цветущий и румяный, чем при жизни, – и сохраняют свои земные приметы. Когда герой-рассказчик говорит о себе «я», он имеет в виду свою душу, а физическую свою оболочку называет не «я», а «мое тело»: «<…> я был сдавлен в своем собственном теле, словно комок шерсти, и мгновенно вытолкнут через ноздри и рот, подобно дыханию» [26, c. 376]; «Приникнув к своему телу, я вновь вошел в него через ноздри и рот. Оно совершенно застыло от стужи и было охвачено оцепенением смерти, так что этой ночью мне грозила опасность замерзнуть» [26, c. 386]. В Аиде герой-рассказчик присутствует, очевидно, как душа, а тело его осталось лежать в гостинице в постели.
При этом душа тоже оказывается субстанцией довольно материальной – из нее сочится кровь, поскольку она была насильно и до срока отторгнута от тела: «<…> эти не в меру исправные и рьяные проводники <…> насильно отторгли от тела душу, еще неразрывно с ним соединенную <…>, отчего она до сих пор не успела зажить, и с нее каплями продолжает струиться кровь…» [26, c. 379]; душу следует осмотреть, так как «на ней до сих пор висят клочья мяса» [26, c. 382]; «Поверхность тимарионовой души повсюду <…> обнаруживает следы борьбы, т.е. обычные для павших на поле сражения пот и кровь. <…> на ней остались частицы мяса, также окровавленные и не успевшие омертветь» [26, c. 382]. Более того, видимо, душа являет собой точный слепок физического тела, поскольку Феодор добавляет: «В его душе вы обнаружите желчь в области печени, где происходит образование крови <…>» [26, c. 382]. Тем не менее, мотив трудности пересечения границы между мирами отчасти подрывается ироническим финалом, пародирующим мотив жертвы божеству, где Тимарион – как впоследствии Мазарис –стремится передать посылку в Аид Феодору («<…> найди мне еще не погребенных покойников, которым можно было бы отдать заказанные мне Феодором лакомства <…> Пусть только это <…> будут <…> какие-нибудь грязные пафлагонцы с базара, почтущие за честь для себя спуститься в аид с куском свинины подмышкой» [26, c. 386]).
Как душа является подобием тела, так существование в Аиде похоже на земную жизнь; помимо сцены суда, обращают на себя внимание в этом отношении мотивы иерархии и бюрократии, которые важны здесь не менее, чем наверху, например: «<…> после краткого совещания с врачами, когда черепки для голосования были по обычаю опущены в стоявшие тут же урны, вынесли мне оправдательный приговор. Вслед за этим началось составление протокола» [26, c. 383].
Примечателен и тот факт, что, хотя «Тимарион» соединяет приметы античного и византийского, он, как и «Мазарис», в общем, лишен христианского начала – несмотря на несколько упоминаний «галилейской» веры, к которой принадлежит герой-рассказчик и из-за которой боится предвзятого отношения судей-эллинов. Думается, что, поскольку нарратив мертвеца близок лукиановской традиции – пародийной и (факультативно) комической, постольку он далек от христианства – даже в форме малейших внешних его примет. Рискнем даже утверждать, что позднейший постум-нарратив всегда будет сопротивляться введению христианского элемента и тяготеть к агностицизму лукиановского типа. Напротив, генетически близкая постум-нарративу жанровая традиция видений будет вся проникнута христианским духом и христианскими мотивами. Отсюда, кстати, и принципиальное различие между ними: современный постум-нарратив не завершается воскресением рассказчика (во всяком случае, нам такие примеры неизвестны), тогда как в видении рассказчик, хоть и посещающий иные миры, путешествует по ним не мертвым, а живым, или же испытывает субъективное ощущение воскресения – будто после тяжелого сна или болезни.
Таким образом, рассматривая генезис и эволюцию современного постум-нарратива, следует, с одной стороны, помнить о его генетическом родстве с жанром видения (поскольку развивались они из одной точки), а с другой – иметь в виду названное принципиальное различие, которое будет определять иные «координаты» двух жанров, в конечном итоге имеющих разные задачи и представляющих разные картины мира.
1 Вопрос о том, знал ли автор «Мазариса» текст «Тимариона», как и попытки установить авторство обоих произведений, мы оставляем на полях как не слишком существенные для интересующей нас проблематики и отсылаем к специальным работам, в частности: [16]–[19].
2 Ср.: «Кто же он был, этот творец поздневизантийской сатиры? Принято считать, что автор сатиры выводит себя под именем Мазариса. Если допустить, что имя автора совпадает с именем главного действующего лица, то, казалось бы, вопрос об авторе этой сатиры можно считать решенным. Но <…> в истории византийской литературы известно несколько человек, носивших это имя, и, следовательно, пришлось всех их поочередно сопоставить с сатириком. Однако ни одного из них нельзя с полной уверенностью идентифицировать с нашим автором» [20, c. 321].
3 Родственные явления существуют даже в драме. Так, В. Шкловский, начиная свою программную статью «Как сделан “Дон Кихот”» со сравнения гном в конце монологов античной драмы, а именно у Софокла и Еврипида, подмечает, что у первого монологи всегда заключаются некоей моральной сентенцией – вне зависимости от того, морален или же аморален герой, которому она приписана. Происходит это потому, что, по мнению Шкловского, «у Софокла “речь” еще всегда речь автора. Автор еще не хочет разнообразить речей своих масок» [22, c. 91].
4 В тексте лакуна.
5 Текст не свободен от внутренних противоречий, уже отмечавшихся исследователями [20, c. 329], – видимо, потому, что разные его части были написаны не одновременно. Так, в начале второго фрагмента («Сновидение после возвращения на землю…») присутствует противоположный по смыслу пассаж: «Даже в пределах Аида, где нет места ревности и зависти, раздору и коварству, шуму и беспорядку, где ни секретарь, ни министр, ни военачальник, ни адмирал и вообще никто не имеет права заниматься чем-то подобным, но где каждый единственно за то, что он сделал при жизни, должен отдать отчет <…>» [25, c. 347].
6 Отметим, что врачи и риторы оказываются важнейшими персонажами как «Мазариса», так и «Тимариона», причем специалисты указывают, что медицина, философия и риторика в Византии были слабо дифференцированы. О специфике изображения врачей в византийской литературе см.: [16]; [29]; [30].
7 Ср. схожее место в «Мазарисе»: «Тут я, обрадованный и ошеломленный как тем, что он дал мне такой совет и сообщил мне такие новые и необычайные вещи, а также и тем, что, по его словам, я вновь воскресну и во второй раз умру, сказал ему <…>» [25, c. 332].
8 По-видимому, имеется в виду Михаил Асень [25, с. 346].
9 Возможно, здесь содержится вольнодумная параллель к Воскресению Иисуса Христа.
About the authors
V. B. Zuseva-Özkan
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: v.zuseva.ozkan@gmail.com
Doct. Sci. (Philol.), Leading Researcher, Head of the Department of European and American Contemporary Literature
Russian Federation, MoscowReferences
- Zuseva-Ozkan, V.B. Povestvovanie ot lica mertveca v sovremennoj proze [Posthumous Narrative in Modern Fiction]. Novyj filologicheskij vestnik [New Philological Bulletin]. 2022, No. 2(61), pp. 27–38. (In Russ.)
- Richardson, B. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 2006. 166 p.
- Bennett, A. Afterlife and Narrative in Contemporary Fiction. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, 2012. 228 p.
- Carrard, Ph. Dead Man and Woman Talking: Narratives from Beyond the Grave. The Routledge Companion to Death and Literature. New York: Routledge, 2020, pp. 71–82.
- Weinmann, F. “Je suis mort”: Essai sur la narration autothanatographique. Paris: Seuil, 2018. 300 p. (In French)
- Alber, J. Forbidden Mental Fruit? Dead Narrators and Characters from Medieval to Postmodernist Narratives. The Routledge Companion to Death and Literature. New York: Routledge, 2020, pp. 42–52.
- Freidenberg, O.M. Mif i literatura drevnosti [Myth and Ancient Literature]. Moscow: Vostochnaja literature Publ., 1998. 800 p. (In Russ.)
- Zuseva-Ozkan, V.B. K voprosu o nekotoryh istochnikah sovremennogo postum-narrativa: puteshestvie v zagrobnyj mir i dialog mertvecov u Lukiana Samosatskogo [On the Question of Some Sources of the Modern Posthumous Narrative: Journey to the Afterworld and Dialogue of the Dead in Lucian of Samosata]. Novyj filologicheskij vestnik [New Philological Bulletin]. 2024, No. 3(70), pp. 69–87. (In Russ.)
- Polyakova, S.V. Vizantijskij satiricheskij dialog [Byzantine Satirical Dialogue]. Vizantijskij satiricheskij dialog [Byzantine Satirical Dialogue]. Leningrad: Nauka Publ., 1986, pp. 129–165. (In Russ.)
- Freidenberg, O.M. Pojetika sjuzheta i zhanra [Poetics of Plot and Genre]. Moscow: Labirint Publ., 1997. 448 p. (In Russ.)
- The Oxford Dictionary of Byzantium, in 3 vols., ed. Alexander P. Kazhdan. New York, Oxford: Oxford University Press, 1991. Vol. 1. li, 728 p.
- Marciniak, P. Reinventing Lucian in Byzantium. Dumbarton Oaks Papers. 2016, Vol. 70, pp. 209–224.
- Nilsson, I. Poets and Teachers in the Underworld: From the Lucianic katabasis to the Timarion. Symbolae Osloenses. 2016, No. 90(1), pp. 180–204.
- Romano, R. Ancora sulla attribuzione del Timarione pseudolucianeo. Vichiana: Rassegna di studi filologici e storici. 1987, No. 16, pp. 169–76. (In Italian)
- Alexiou, M. Literary Subversion and the Aristocracy in Twelfth-Century Byzantium: A Stylistic Analysis of the Timarion (ch. 6–10). Byzantine and Modern Greek Studies. 1983, No. 8, pp. 29–45.
- Menelaou, I. Byzantine Satire: The Background in the Timarion. Hiperboreea. Journal of History. 2017, Vol. 4, No. 2, pp. 53–66.
- Garland, L. Mazarisʼs Journey to Hades: Further Reflections and Reappraisal. Dumbarton Oaks Papers. 2007, Vol. 61, pp. 183–214.
- Baldwin, B. The “Mazaris”: Reflections and Reappraisal. Illinois Classical Studies. 1993, Vol. 18, pp. 345–358.
- Beaton, R. Cappadocians at Court: Digenes and Timarion. Alexios I Komnenos, eds. M. Mullett and D. Smythe. Belfast: Belfast Byzantine Enterprises, School of Greek, Roman and Semitic Studies, Queenʼs University of Belfast, 1996, pp. 329–338.
- Sokolova, T.M. Prebyvanie Mazarisa v podzemnom carstve. Predislovie [Mazaris’s Journey to the Afterworld. Preface]. Vizantijskij vremennik [Byzantine Chronicle]. Moscow: Izd. AN SSSR Publ., 1958, Vol. XIV, pp. 318–329. (In Russ.)
- Mikhaylov, A.V. Pojetika barokko: Zavershenie ritoricheskoj jepohi [Baroque Poetics: The End of the Rhetorical Era]. Istoricheskaja pojetika: Literaturnye jepohi i tipy hudozhestvennogo soznanija: sb. st. [Historical Poetics. Literary Eras and Types of Artistic Consciousness: Collection of Papers], ed. P.A. Grincer. Moscow: Nasledie Publ., 1994, pp. 326–391. (In Russ.)
- Shklovskiy, V. Kak sdelan Don-Kihot [How Don Quixote Is Made]. Shklovskiy, V. O teorii prozy [On the Theory of Prosa]. Moscow: Federatsia Publ., 1929, pp. 91–124. (In Russ.)
- Strelnikova, I.P. “Metamorfozy” Apuleja [Apuleius’s Metamorphoses]. Antichnyj roman: sb. st. [Ancient Novel: Collection of Papers], ed. M.E. Grabar-Passek. Moscow: Nauka Publ., 1969, pp. 332–364. (In Russ.)
- Grimаl, P. L’originalité des “Métamorphoses” d’Apulée. Information littéraire, IX. 1957, No. 4, pp. 156–162. (In French.)
- Prebyvanie Mazarisa v podzemnom carstve [Mazaris’s Journey to the Afterworld], transl. S.P. Kondratyev, preface and commentary T.M. Sokolova. Vizantijskij vremennik [Byzantine Chronicle]. Moscow: Izd. AN SSSR Publ., 1958, Vol. XIV, pp. 329–357. (In Russ.)
- Timarion [Timarion], transl. S.V. Polyakova and I.V. Falenkovskaya, preface E.Je. Lipshits. Vizantijskij vremennik [Byzantine Chronicle]. Moscow: Izd. AN SSSR Publ., 1953, Vol. VI, pp. 365–386. (In Russ.)
- Nicol, D.M. The Last Centuries of Byzantium. 1261–1453. London: Hart-Davis, 1972. xii, 482 p.
- Lucian of Samosata. Sochinenija [Works], in 2 Vols., ed. A.I. Zaytsev. St. Petersburg: Aletejja Publ., 2001. (In Russ.)
- Baldwin, B. Beyond the House Call: Doctors in Early Byzantine History and Policies. Dumbarton Oaks Papers. 1984. Vol. 38: Symposium on Byzantine Medicine, pp. 15–19.
- Kazhdan, A. The Image of the Medical Doctor in Byzantine Literature of the Tenth to Twelfth Centuries. Dumbarton Oaks Papers. 1984, Vol. 38: Symposium on Byzantine Medicine, pp. 43–51.
- Barthes, R. Tekstovoj analiz odnoj novelly Jedgara Po [Textual Analysis of a Tale by Edgar Poe]. Barthes, R. Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress Publ., 1989, pp. 424–461. (In Russ.)