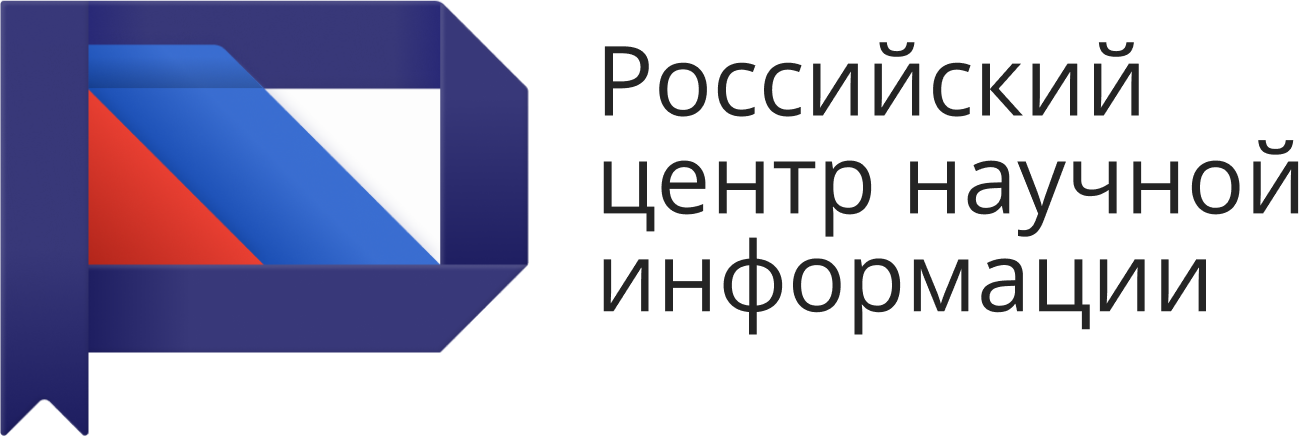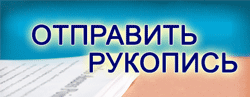Развитие в ретроспективе: историко-феноменологический анализ
- Авторы: Шипилов А.В.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный педагогический университет
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 7-18
- Раздел: Социальная философия
- URL: https://ogarev-online.ru/0869-0499/article/view/259146
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869049924010014
- EDN: https://elibrary.ru/RVKVGW
- ID: 259146
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена развитию как понятию и явлению в исторической ретроспективе. Развитие в его современном понимании стало наблюдаемым фактом и осознанной идеей не ранее второй половины XVIII в. Как показывают результаты анализа данных по Средневековью, Древнему миру и эпохе первобытного общества, развитие редко присутствует в истории и практически отсутствует в доистории. Наметившиеся тенденции в мировой экономике и демографии позволяют говорить о снижении темпов роста и замедлении развития. Уподобление в этом отношении постмодерна премодерну способно вывести развитие из числа значимых ценностей и целей общества, так что встает вопрос о возможных его альтернативах.
Ключевые слова
Полный текст
Происхождение понятия и перспективы явления
Метафора развития, понимаемого как необходимое направленное, необратимое увеличение / усложнение / улучшение, в современном словоупотреблении настолько распространена, что рассматривать ее извне непросто. Согласно советскому лингвисту В.В. Виноградову, русское слово «развитие», калькирующее немецкое Entwicklung, французское dévеlорреmеnt и в конечном счете латинское evolutio, относилось к косам, веревкам и венкам и вплоть до конца XVIII в. означало разматывание, раскручивание и рассучивание. Семантика расплетения воспринималась однозначно вплоть до середины следующего столетия, диссонируя с новым отвлеченным значением увеличения, приумножения и раскрытия; «развитие» резало слух А.С. Шишкова и служило предметом иронии И.С. Тургенева [Виноградов 1999, 588–590]. Тем не менее значение данного понятия как последовательного поступательного прогрессивного изменения все более распространялось. Усилиями Кондорсе, Канта, Гердера и других известных философов и историков словосочетание «социальное развитие» стали употреблять в значении продолжения природного и понимать как прогресс – восхождение от низших форм к высшим. Гегель расширил смысл понятия, добавив к нему такие характеристики, как объективность, закономерность, имманентность, телеологичность и духовность/разумность, а Спенсер представил эволюцию движением от однородной бессвязной неопределенности к разнородной связной определенности. Как констатируют авторы статьи в «Новой философской энциклопедии», «к концу XIX в. идея развития (прежде всего в ее эволюционной форме) прочно внедрилась в концепции истории общества, научного знания, органического и неорганического мира» [Новая… 2010, 397–399]. Очевидно, что продвижение самого понятия коррелировало с развитием как явлением в сферах технической, социальной, политической, научной, культурной жизни.
На первый взгляд, XXI в. в отношении принятия развития как феномена и концепта продолжает предыдущие, однако нельзя не обратить внимание на некоторые нюансы: развитие как увеличение в количественно измеримых экономическом и демографическом аспектах, по-видимому, замедляется [Пикетти 2015, 88, 100, 108–109]. Вместе с тем многие считают, что замедление демографического и экономического роста происходит слишком медленно и надо бы в этом смысле ускориться: на протяжении последних пяти десятилетий самые разные организации и лица от Римского клуба до Клауса Шваба призывают к ограничению, снижению, а то и отказу от роста, т. е., по сути, от развития. Некоторые концептуализируют этот тезис как устойчивое развитие, другие считают, что развитие возможно и при отказе от роста, а третьи рассуждают о постразвитии (postdevelopment) и пропагандируют снижение роста (degrowth).
В связи с этим следует рассмотреть развитие как понятие и явление в направлении от модерна к премодерну, чтобы затем обратиться к постмодерну. В такой ретроспективе чем дальше от нас эпоха, тем более она продолжительна и в то же время менее изучена, почему и требует большего внимания. Конечно, формат статьи обусловливает некоторую эскизность и пунктирность анализа, но порой взгляд с птичьего полета способен дать представление о картине в целом. Для человека, воспринимающего реальность через призму развития, все выглядит развивающимся или неразвивающимся, стагнирующим, а то и регрессирующим в диапазоне от застоя до упадка. Однако резонно задать вопрос, является ли развитие традиционной ценностью. Ответ будет отрицательным, если под традицией мы будем иметь в виду не модерн, а премодерн в целом, обращение к опыту которого, вероятно, способно привести к лучшему пониманию специфики нынешнего пост[пост]модерна.
Старый порядок
Как известно, Западная Европа в экономическом и демографическом отношении достигла уровня Древнего Рима времен его расцвета приблизительно к XVIII в., после чего в 1760–1780-х гг. с началом промышленной революции заработал механизм самообеспечивающегося роста, благодаря которому резко ускорилось политическое, социальное и культурное развитие [Бродель 1992, 582; Щербак 2023, 6–10, 24, 36]. Какой-либо шеллингианско-гегельянской целесообразности, закономерности, необходимости, неизбежности и необратимости в этом феномене не было: самоподдерживающееся развитие в истории есть не норма, а исключение, случайность. Она стала результатом комбинации нескольких факторов, усиливающих друг друга, среди которых называют технологическую креативность, наличие рынка идей, возможность межгосударственных миграций, переход на ископаемое топливо, доступ к ресурсам колоний, различные экологические и демографические особенности и т. д. И в другие периоды европейской истории (например, в XV в.), и в других регионах мира (например, в позднесредневековом Китае) складывались ситуации, при которых могла бы начаться индустриализация, обеспечив устойчивый экономический рост. Однако всякий раз включался механизм отрицательной обратной связи, приводивший к стагнации или упадку. Технический прогресс, экономический рост и устойчивое развитие – это не норма, а отклонение от нее, продукт удачного стечения обстоятельств, случившегося в Западной Европе (еще конкретнее – в Англии) во второй половине XVIII в. [Мокир 2014, 38, 343, 367; Померанц 2017, 125, 495].
Примерно с этого времени (точнее, несколькими десятилетиями ранее) европейские мыслители начали рассуждать о прогрессивном развитии, но довольно своеобразно. У итальянского философа Дж. Вико вещи и идеи совершенствуются от самого их возникновения, обычаи развиваются, люди движутся вперед благодаря развитию ума, нации пребывают в «естественном поступательном движении», которое вместе с тем включает в себя фазы упадка и конца, а руководит всем этим процессом Провидение (именно оно «породило», «создало», «установило», «заставило», «позволило», «допустило» то и это, от гражданского порядка до красноречия) [Вико 1994, 377, 424, 427, 466–467]. Для французского экономиста и философа А.Р.Ж. Тюрго общественное развитие определяется уже не провидением, а производством, которое обусловливает классовое деление и социальное неравенство. Народы господствуют и подчиняются, империи возникают и гибнут, но именно благодаря этому «нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнения, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству», рубежом которого было правление Людовиков Четырнадцатого и Пятнадцатого в их блеске и величии, осчастлививших собой Францию и всю вселенную [Тюрго 1937, 51, 72; Тюрго 1961, 100–104]. Известный британский историк Э. Гиббон считал, что человечество поступательно совершенствуется, и «если внешний вид природы не изменится, то ни один народ не возвратится в свое первобытное варварство». Он пришел к «тому приятному заключению, что с каждым веком увеличивались и до сих пор увеличиваются материальные богатства, благосостояние, знания и, быть может, добродетели человеческого рода», и все это в сочинении под названием «История упадка и крушения Римской империи», где он описал «достопамятный ряд переворотов, который в течение почти тринадцати столетий мало-помалу расшатывал и наконец разрушил громадное здание человеческого величия» [Гиббон 1994, 15, 526]. Ж.-Ж. Руссо рассуждал о поступательном развитии вещей, последовательном развитии разума и способностей человека, чье родовое свойство – способность к самосовершенствованию, но касательно формы правления демократия у него классически вырождается в охлократию, аристократия – в олигархию, а монархия – в тиранию; политический организм, подобно человеческому, «начинает умирать с самого своего рождения и несет в себе самом причины своего разрушения» [Руссо 1998, 68–71, 83, 274–275]. Здесь просветитель недалеко ушел от Макиавелли, чьи городские республики в случае, если «имеют добрую основу, способную к улучшениям, могут при благоприятном стечении обстоятельств достичь совершенства», но развитие их все равно ходит по кругу одних и тех же форм правления от «самодержавия» до «разнузданности», а «мир всегда остается одинаковым» [Жизнь… 1993, 319–322, 376].
Средние века
Старый режим (Ancien Régime, или дореволюционная Франция) был порядком не самым старым – ему предшествовало Средневековье. Нельзя сказать, что развитие как явление совершенно отсутствовало в течение тысячелетия между Древним миром и Новым светом, однако за периодами подъема неизменно следовали периоды упадка, о чем свидетельствуют количественные показатели площади распаханных земель, численности населения и т. п. Что касается развития как понятия, то некоторые концептуальные его элементы включены в христианскую линейно-историческую модель времени, в котором то, что происходило до Р.Х., – не то, что случилось после. Однако в конце времен для христианина эта линия сворачивается в кольцо: земная история от Сотворения мира до Страшного суда есть цикл, а в истории священной каждому событию Нового завета находится аналог/прообраз в Ветхом, и последние как предвещают, так и предвосхищают первые. В таинствах и праздниках регулярно воспроизводится сакральное время, а во времени профанном вращается колесо Фортуны, возносящей лишь для того, чтобы затем низвергнуть [Гуревич 1972, 100, 117; Гуревич 1990, 83; Ле Гофф 1992, 155–156, 161]. Средневековое время исторично, но эта история не содержит в себе развития независимо от периодизации: четыре царства Иеронима Стридонского, семь возрастов Августина Иппонийского, три эры Иоахима Флорского – все это не развитие, а развертывание (предначертанного божественного плана) [Гуревич 1972, 115, 119].
Призыв «помни о смерти» (memento mori) как лейтмотив душевной жизни – не лучший стимул для развития, ведь согласно ему, если в мире что-то меняется, то эти изменения не к добру: средневековый человек живет в шестом возрасте мира, лучшее осталось позади, человечество одряхлело, люди стали меньше ростом и дурнее лицом, все и всё на пороге смерти и на грани гибели [Блок 1973, 138–140; Ле Гофф 1992, 157–159]. В этом мире любое изменение есть изменение к худшему, ведущее к упадку. Всякое новшество греховно, технические или интеллектуальные новации подлежат осуждению и преследованию, изобретать безнравственно и быть оригинальным недостойно; всё старое/древнее безусловно лучше нового/современного [Гуревич 1972, 112–113; Ле Гофф 1992, 303].
Для Средних веков существование – это не становление, а пребывание. Быть – это быть сопричастным вечности, и неизменное онтологически превосходит изменяющееся. В соответствии с этим историки пишут свои труды «как нечто вневременное, как процесс, в котором повторяются одни и те же модели и нет подлинного развития» [Гуревич 1972, 106, 121; Ле Гофф 1992, 173]. То же и литераторы других жанров: события, произошедшие раньше, и события, произошедшие позже, они и описывают как одновременные, герои рыцарских романов не стареют, в «Песне о Нибелунгах» юные, зрелые и пожилые персонажи остаются точно такими же спустя несколько десятков лет, их характеры не развиваются, не эволюционируют, в агиографии персонажи не знают никакого развития на пути к святости – либо таковыми сразу рождаются, либо в данное состояние внезапно перерождаются [Гуревич 1972, 120–125; Гуревич 1990, 118–121]. «Люди средних веков не безразличны к времени, но они мало восприимчивы к изменению и развитию, – отмечает А.Я. Гуревич. – Стабильность, традиционность, повторяемость – в этих категориях двигалось их сознание, в них же осмыслялось то действительное историческое развитие, которого они так долго не могли ощутить» [Гуревич 1972, 138].
Древний мир
Греко-римская античность в отношении развития как факта и идеи тоже весьма специфична. В некоторых местах в некоторые времена технико-технологическое развитие было столь интенсивным, что эллинистический Египет и Рим периода Поздней республики – ранней Римской империи вплотную приблизились к порогу не только индустриализации, но и модернизации, однако так и не перешагнули его. Блестящие изобретения александрийских инженеров не стали базой промышленной революции; водяной двигатель применяли только для помола зерна, паровую турбину использовали для автоматических игрушек, а насосы, шестерни, винты, болты, рычаги, шкивы применяли и того меньше [Бернал 1956, 130; Бродель 1992, 559–560; Мокир 2014, 58]. Рим эпохи принципата по целому ряду экономических параметров дошел до уровня Нидерландов и Англии начала XVIII в., однако остановился на этом, стагнировал и в дальнейшем регрессировал. Среди причин называют рабовладение, узость рынка сбыта товаров крупного производства, эпидемии, войны, несовершенство политических институтов, предпочтение экстенсивных технологий интенсивным и т. д. Кроме того, слабый интерес к техническим изобретениям и практической адаптации научных открытий, незначительный уровень технологической креативности, низкий спрос на инновации со стороны государства и частного сектора объясняются ментально-идеологическими факторами [Бернал 1956, 130–137; Щербак 2023, 5–6, 30–33].
Дело в том, что античный человек в принципе воспринимал мир не через изменение и развитие, а через покой / самодовление и вращение / возвращение. По замечанию А.Ф. Лосева, античность не исторична, а астрономична; место истории здесь занимает природа, которая в своей целости, как космос, существует вне времени и вечно возвращается в то же самое состояние [Лосев 1977, 19, 198; Лосев 2000, 72, 559]. Мир космический и мир исторический не статичны, но элементы и души пребывают в круговороте, сменяющие друг друга эпохи довлеют себе, люди стремятся не творить новое, а воспроизводить имеющееся и рассматривают будущее как возвращение настоящего либо прошедшего. Философские первоначала, будь то аристотелевский Нус или платоновско-плотиновские Единое, Ум и Душа, вечны и неизменны, и если движутся, то лишь сами в себе; никакой направленности, стремления к определенной цели в социальном и природном мире нет, никто и ничто не стремится развиваться.
Конечно, нельзя сказать, что античность вовсе не знала идеи развития; исключения есть, но они таковы, что, скорее, подтверждают правило. Уже в греческой мифологии присутствуют моменты, связанные с идеей прогресса, однако он оценивается весьма неоднозначно: «Прометей вместе с огнем принес людям горе и страдания, а Дедал, потеряв Икара, проклял свое искусство» [Кессиди 2003, 39]. У Гесиода имеется теогоническая концепция восхождения от дикости и стихийности Урана к порядку и справедливости Зевса, но его повествование о пяти родах людей от золотых до железных являет собой картину не прогресса, а регресса, к тому же это цикл, который должен повторяться бесконечно [Нисбет 2020, 47–50]. Метафизическое учение Аристотеля о четырех причинах бытия вещи – это, безусловно, учение о развитии, но только об органическом; что касается общественного /исторического развития, то соответствующих идей Стагирит не касался [Лосев 1977, 20–23]. Более или менее отчетливо о прогрессе человеческой цивилизации рассуждали атомисты, но их объяснение возникновения, движения, изменения и исчезновения вещей рекомбинацией атомов в пустоте никак этот прогресс не объясняло, а у Лукреция картина движения от дикости к цивилизации есть в сущности картина регресса, так как мир стареет, земля истощается, людям живется тяжелее, а впереди всех ожидает гибель.
За пределами философской рефлексии развития и того меньше. Мифологические боги и богини, герои и героини вечно молоды, понятие возраста к ним неприложимо, имея детей и внуков, они вступают в браки с молодыми и обзаводятся очередным потомством. Как замечает О.М. Фрейденберг, и «к греческой литературе неприменимо так называемое “развитие”» [Фрейденберг 1998, 229]. Архаическая наррация атемпоральна, время в ней – это окаменелое настоящее. В древней логографии рассказ подобен показу, в нем нет начала, конца, связи явлений и сюжетной линии; да и в позднейших мимах отсутствует действие – это не процессы, а картины. В древней аттической комедии, равно как и в ранней трагедии, мелической поэзии и др. события не связаны причинной последовательностью, нет дискурсии, нет развития [Фрейденберг 1998, 371, 373, 463, 466]. Персонажи, мотивы, явления, события – все это статично, точечно, паратактивно, как то свойственно мышлению, еще только движущемуся от мифа к понятию, и концепт развития в нем немыслим.
Аналогичные особенности характерны в той же и даже большей мере для мышления первых цивилизаций Древнего Востока. Здесь инновации люди осмысляли не как таковые, а как воспроизведение мифологических архетипов, исторические события они возводили к мифологическим же прототипам, причинно-следственные связи воспринимали как личностные силы, и в этом контексте концепция прогрессивного общественно-исторического развития понятным образом не была возможна [Антонова 1984, 35, 189; Вейнберг 1986, 47]. История, может быть, и началась в Шумере, но там и тогда писцы по образу мышления были весьма далеки от позднейшей историографии [Крамер 1965, 47]. Для шумеров и вавилонян прошлое было «передним», т. е. к нему человек обращен лицом, в то время как будущее мыслилось находящимся за спиной [Антонова 1984, 194; Вейнберг 1986, 70]. Двигаясь в будущее спиной вперед, о развитии не помыслишь; да и не было в мифологическом мышлении подходящих для этого средств и условий.
Первобытное общество
Первобытное / примитивное / мифологическое мышление нередко сравнивают с детским, и здесь, действительно, можно проследить явные параллели [Мелетинский 2000, 164, 173]. Согласно Ж. Пиаже, детская речь паратактивна: «и» в ней заменяет «потому что», соположение преобладает над подчинением. Детскому мышлению причинно-следственные объяснения и логические обоснования не свойственны, оно синкретично, а не синтетично (и не аналитично). Вместо дедукции и индукции у ребенка преобладает трансдукция, он рассуждает не от общего к частному и не от частного к общему, а от единичного к единичному и от специального к специальному. При этом синкретизм и паратактивность есть две стороны одного явления: если все связано со всем, то ничто ни с чем не связано [Пиаже 1994, 232–237, 333–334, 367–368]. Аналогично в мифологическом мышлении унитивность предполагает аддитивность: здесь господствует принцип «всё есть всё», причем это «всё» представляет собой конгломерат отдельных независимых друг от друга единиц. С одной стороны, все вещи единосущны / консубстанциальны, они не только могут превращаться во все иные, но и есть все эти иные в одно и то же время и в одном и том же отношении. Предмет и символ, часть и целое, земля и небо, жизнь и смерть, лицо и орудие, субъект и объект есть одно и то же [Леви-Брюль 1937, 128, 172; Лосев 1957, 12–13, 54, 150, 212, 401]. С другой стороны, мир представляет собой не систему, а сумму, и отражение его в сознании человека организовано так же. Связность вещей и явлений при этом есть не более чем смежность: миф антикаузален, это система представлений с антикаузальной конструкцией, где отсутствует причинно-следственное построение [Фрейденберг 1998, 24, 57].
В первобытном обществе, если ты родился, то это еще не свидетельствует ни о том, что ты действительно родился, ни о том, что родился действительно ты. С одной стороны, рождение часто понимали как реинкарнацию, когда новорожденного представляли как вновь родившегося умершего, и его принимали за такого возвращенца, предпринимая специальные меры для того, чтобы определить, кто именно вернулся [Пропп 1976, 215, 240]. С другой стороны, не только новорожденного, но и двух-трехлетнего и даже пяти-шестилетнего ребенка могли относить к категории вещей, рассматривая как воду, рыбу и т. п., и только номинация – наречение именем – наделяла его личностью [Шипилов 2022, 159]. Это еще не всё: часто в течение жизни человек сменял несколько имен, то есть несколько личностей, и всякий раз новая сущностно отличалась от прежней. Наконец, становление человеком в полном смысле этого слова предполагает социализацию посредством одной или нескольких инициаций, которые осмысляются «как ликвидация старого состояния и новое начало, смерть и новое рождение» [Мелетинский 2000, 226]. Предполагалось, что во время обряда инициируемый умирал (его поглощали, пожирали разные чудовища, сжигали, варили, жарили, разрубали на части и т. п.) и затем он воскресал уже новым человеком. При подобных обрядах несложно было погибнуть на самом деле, так как инициация включала в себя длительные голодовки, истязания, пытки, членовредительство, принятие ядов, телесный контакт с трупами, иногда каннибализм и пр. В результате инициируемый мог приходить в умоисступление, терять память, забывать дом, родителей, собственное имя и тем самым убеждаться в том, что он умер и вернулся другим человеком; со своей стороны, родители и окружающие тоже делали вид, что не узнают его, что он другой человек с другим именем [Пропп 1946, 43–44, 74–85, 120–121].
Какое все это имеет отношению к развитию? Самое отрицательное и даже исключающее. Чтобы развиваться, нужно прежде всего быть собой, а если всё есть всё, то ничто не есть ничто. Быть – это отличаться от иного синхронно и от себя диахронно, не отличаясь от иного диахронно и от себя синхронно; отличаясь от иного, отождествляешь себя с собой, отличаясь от себя, отождествляешь себя с иным. Здесь не так: и синхронно, и диахронно всё есть всё, а одно не есть одно. Если человек и общество слабо отличаются от других, но сильно отличаются от себя, то чему/кому здесь развиваться? Объект не отделен от других, субъект разделен на другие, и нет того, что менялось бы, оставаясь собой. Кроме того, не способствовала развитию как идее и слабость причинно-следственного мышления. Конечно, развитие как явление материально-технической и вообще культурной сферы в собственно и условно первобытном обществе присутствовало; кумуляция, дифференциация, интеграция, рост, расширение, улучшение и пр., что попадает под категорию развития, происходили, но чрезвычайно медленно, так что изменения были несопоставимы со сроками жизни человека, одного или нескольких поколений. Поэтому развитие не замечали, его не рефлексировали и тем более не считали ценностью и целью. Д.Л. Эверетт, проживший много лет среди индейцев пираха, замечает, что «у нас, в индустриальной культуре, успех хотя бы частично приравнивается к постоянному прогрессу орудий и техники. Но у пираха такого прогресса нет, и они его не хотят» [Эверетт 2016, 94].
Чтобы развиваться, для начала нужно существовать, но в наиболее примитивных мифологиях у существования нет начала. Точнее сказать, у наиболее примитивных племен, таких как карибы, дайери, арунта, космогонический миф просто отсутствует как таковой: всё существующее мыслится существующим всегда, всё происходящее происходит само собой [Шахнович 1971, 118–122]. Д.Л. Эверетт свидетельствует, что, несмотря на все усилия, ему не удалось обнаружить у пираха мифов о сотворении мира [Эверетт 2016, 145]. Согласно Б. Малиновскому, тробрианцы, широко практиковавшие магию, последнюю не воспринимали как сотворенную или изобретенную, а мыслили существующей всегда и неизменно [Малиновский 2004, 395–399; Малиновский 2015, 74, 138].
В примитивных обществах если даже представления о космогенезе, равно как о антропо-, социо- и культурогенезе наличествуют, то идея развития в них отсутствует. У тех же тробрианцев люди вышли из-под земли, где вели существование, во всех деталях подобное дальнейшему земному; всю культуру они принесли с собой готовой, будь то орудия, навыки, украшения, обычаи или законы [Малиновский 2004, 307; Малиновский 2015, 109–111]. Если происхождение чего- или кого-либо не автогенетическое, то культурные герои и демиурги не производят и тем паче не модифицируют эти блага (огонь, свет, вода, злаки, производственно-магические приемы и т. п.), они их добывают – находят, похищают, перемещают – в готовом виде (в этом, как считается, находит свое выражение специфика присваивающего хозяйства); лишь иногда им приходится доделывать полуфабрикат, например заготовки первых людей в виде личинок или кусков дерева [Мелетинский 1968, 166–167, 232].
Коль в мифе что-то или всё произошло, оно не склонно к изменению и тем более к развитию. Мифологические (частью и сказочные) вещи и люди, будучи рожденными / созданными/произведенными, мгновенно приходят в состояние полной готовности, чтобы перманентно пребывать в нем: пальмы или ореховые деревья вырастают и начинают плодоносить за несколько часов, младенцы становятся взрослыми за несколько дней [Леви-Брюль 1937, 321–322, 427, 487]. Если мифологические реалии изменяются, то при этом они не развиваются от одного состояния к другому, а превращаются, метаморфируют друг в друга, и это скорее флуктуации, чем направленное движение [Леви-Брюль 1937, 321; Лосев 1957, 12; Мелетинский 2000, 48]. Последнее появляется только в позднем эсхатологическом мифе, выступающем своего рода инверсией космогонического, но в конечном счете это чаще всего цикл, где за возвратом в хаос следует новый космос, и если развитие подразумевает необратимость изменения, то это не развитие [Мелетинский 2000, 73–74, 154–155, 224]. «Мы видели, что идея исторического развития остается совершенно чуждой этим первобытным существам, – замечает Л. Леви-Брюль о людях примитивных обществ. – Тем больше оснований для отсутствия у них идеи прогресса. <…> Каково бы ни было развитие их цивилизации, идея прогресса их даже не задевает» [Леви-Брюль 1937, 326–327].
***
Насколько идея исторического развития, идея прогресса задевает нас? Насколько развитие остается целью и ценностью, и каковы его перспективы как идеи и факта в ближайшем, среднесрочном, отдаленном будущем? Вопросительные знаки здесь стоят неспроста, так как ситуация видится не столь однозначной, как могло бы показаться на первый взгляд. Развитие как наблюдаемый факт и осознаваемая идея есть не традиция, а новация по большей части двух-трехвековой давности, что составляет менее полутора сотых процента истории человечества на Земле.
Перспективы демографического и экономического роста как по объективным причинам, так и вследствие целенаправленной деятельности различных групп, партий и движений начинают выглядеть неопределенными. К тому же в последние десятилетия все чаще предметом обсуждения становятся феномены реархаизации социальных практик и ремифологизации общественного сознания, в силу чего постмодерн все более уподобляется премодерну. Представляется, что результатом тотального внедрения телекоммуникационных технологий и повсеместного распространения «зеленой повестки» может стать не только замедление темпов экономического роста, но и остановка социального прогресса. Как относиться к этому? Вопрос остается открытым. Может быть, настало время задуматься о возможных альтернативах развитию?
Об авторах
Андрей Васильевич Шипилов
Воронежский государственный педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: andshipilo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8885-2157
доктор культурологии, доцент, профессор кафедры философии, экономики и социально-экономических дисциплин
Россия, 394043, Воронеж, ул. Ленина, д. 86Список литературы
- Антонова Е.В. (1984) Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. М.: Наука. 264 с.
- Бернал Дж. (1956) Наука в истории общества. М.: Издательство иностранной литературы. 735 с.
- Блок М. (1973) Апология истории. М.: Наука. 230 с.
- Бродель Ф. (1992) Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс. 679 с.
- Вейнберг И.П. (1986) Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». 208 с.
- Вико Д. (1994) Основания новой науки. М.–Киев: REFL-book – «ИСА». 656 с.
- Виноградов В.В. (1999) История слов. М.: Институт русского языка РАН. 1138 с.
- Гиббон Э. (1994) История упадка и крушения Римской империи. М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура». 526 с.
- Гуревич А.Я. (1972) Категории средневековой культуры. М.: «Искусство». 318 с.
- Гуревич А.Я. (1990) Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство. 396 с.
- Жизнь Никколо Макьявелли (1993). СПб.: Лениздат. 413 с.
- Кессиди Ф. (2003) От мифа к логосу: Становление греческой философии. СПб.: Алетейя. 360 с.
- Крамер С. (1965) История начинается в Шумере. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». 256 с.
- Ле Гофф Ж. (1992) Цивилизация средневекового Запада. М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия. 376 с.
- Леви-Брюль Л. (1937) Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: ОГИЗ. 533 с.
- Лосев А.Ф. (1957) Античная мифология в ее историческом развитии. М.: Учпедгиз. 617 с.
- Лосев А.Ф. (1977) Античная философия истории. М.: Наука. 206 с.
- Лосев А.Ф. (2000) История античной эстетики. Ранняя классика. М.: Издательство АСТ; Харьков: Фолио. 624 с.
- Малиновский Б. (2004) Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 552 с.
- Малиновский Б. (2015) Магия, наука и религия. М.: Академический проект. 298 с.
- Мелетинский Б.М. (2000) Поэтика мифа. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 407 с.
- Мелетинский Е.М. (1968) «Эдда» и ранние формы эпоса. М.: Наука. 364 с.
- Мокир Дж. (2014) Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Издательство Института Гайдара. 504 с.
- Нисбет Р. (2020) Прогресс: история идеи. М.; Челябинск: Социум. 558 с.
- Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. (2010). М.: Мысль. 692 с.
- Пиаже Ж. (1994) Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс. 528 с.
- Пикетти Т. (2015) Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. 592 с.
- Померанц К. (2017) Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Издательский дом «Дело». 592 с.
- Пропп В.Я. (1946) Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ. 340 с.
- Пропп В.Я. (1976) Фольклор и действительность. Избранные статьи. М.: Наука. 330 с.
- Руссо Ж.Ж. (1998) Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон-пресс, Кучково поле. 416 с.
- Тюрго А.Р. (1937) Избранные философские произведения. М.: Государственное социально-экономическое издательство. 187 с.
- Тюрго А.Р. (1961) Избранные экономические произведения. М.: Издательство социально-экономической литературы. 198 с.
- Фрейденберг О.М. (1998) Миф и литература древности. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 800 с.
- Шахнович М.И. (1971) Первобытная мифология и философия. Л.: Наука. 240 с.
- Шипилов А.В. (2022) До и после современности. М.: Прогресс-Традиция. 240 с.
- Щербак А.Н. (2023) Первый блин комом: почему не случилась модернизация в Древнем Риме? СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 38 с.
- Эверетт Д.Л. (2016) Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей. М.: Издательский Дом ЯСК. 384 с.
Дополнительные файлы