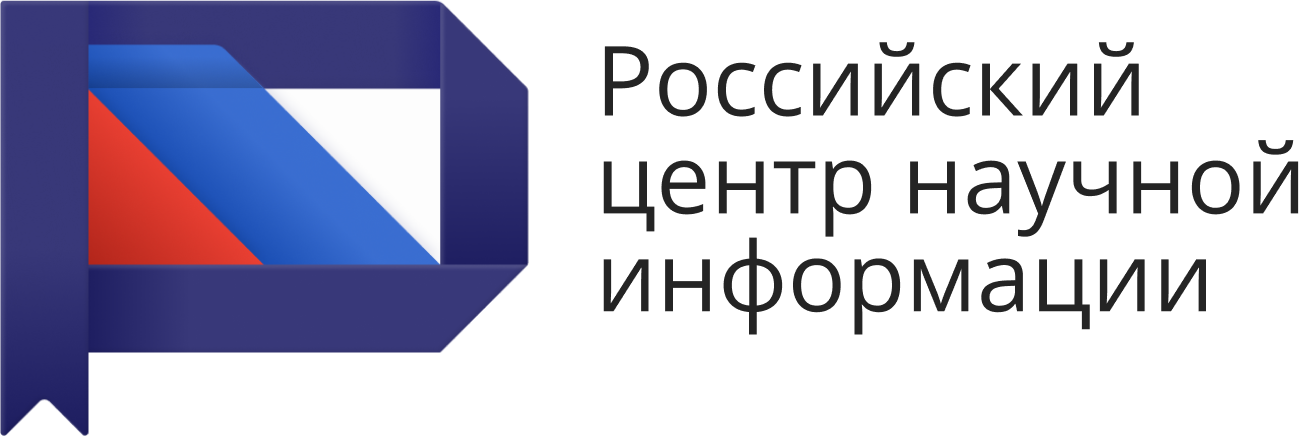Foucault’s failed “death of man”: its structure, problems and relevance
- Авторлар: Pisarev A.А.1
-
Мекемелер:
- RAS Institute of Philosophy
- Шығарылым: Том 35, № 6 (2024)
- Беттер: 7-30
- Бөлім: The philosophy of the himan being
- URL: https://ogarev-online.ru/0236-2007/article/view/273183
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724060015
- ID: 273183
Толық мәтін
Аннотация
The article clarifies Foucault’s thesis on “the death of man”, identifies its weaknesses and relevance today. The background of this thesis and the misconceptions in its interpretation are briefly written out. It is not about human as a subject, a biological species or a biosocial being, but about Man as a historical a priori, or a modern episteme formed at the turn of the XVIII–XIX centuries. As a transcendental condition, it determines the nature of modern forms of knowledge and thinking, for example, German idealism, psychoanalysis, Marxism, and various kinds of naturalistic reductionisms. Human became possible thanks to the idea of transcendental finitude associated with Kant’s Copernican turn. However, his birth is associated with betrayal of the transcendental project — a mixture of the transcendental and empirical levels. The general structure of Man is a transcendence, defined on the basis of human sciences and their empirical objectivity. It is shown that, contrary to popular simplifying interpretations, the sciences of man are understood by Foucault specifically: they combine sciences (linguistics, social sciences, biology) with Man as a doubling. The stability and difficulty of overcoming a Person are set by the paradoxical nature of his structure, which mixes empirical and transcendental finiteness: empirical instances (language, labor, biological life) define a person in objective time, but are possible, like time, only thanks to the structure of cognition. A critique of Foucault’s idea of Man is given. Using the example of a cerebral subject identifying a personality with the brain, the relevance of a Person today is shown at least beyond philosophy in the concepts of subjects that rely on scientific knowledge and circulate in discourses and practices in the social space.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
«Человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания. Он исчезнет, как только это поле примет новую форму» [Фуко, 1994: 36].
«Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [там же: 404]
Наиболее известна эффектная и завершающая книгу вторая цитата, что отчасти объясняет распространенность упрощающего или неверного понимания тезиса. Тезис часто натурализируется, и его понимают то как трансгуманистическое преодоление человеческой природы, то как антигуманистическую атаку на человечность как таковую и даже как заявление об исчезновении человека как существа. Натурализации, помимо прочего, способствует слово «смерть» (la mort d’Homme), обычно отсылающее к телесной смерти, в то время как в книге Фуко также использует более нейтральное «исчезновение» (la disparition) и производные. В понятие человека в этой работе часто вчитывают другие концепции, что ставит его в один ряд с такими понятиями, как трансцендентальный субъект [Круглов, 2004], смысл которых даже в философском сообществе радикально отличается от того, что имели в виду их авторы. Чаще всего человек понимается как субъект1, реже — биосоциальное существо, биологический вид, сознание или же вовсе самоочевидное и непроясненное «человек» из здравого смысла. На деле подобные концепции производны от того, что Фуко понимает под человеком, либо вообще с этим не связаны (как в случае «картезианского субъекта»). Независимо от того, состоялась или нет «смерть человека» как событие, почти «умер» сам тезис — под весом некорректных способов понимания.
Приведенные интерпретации остаются на «поверхности» истории, в то время как археологический метод философа проникает вглубь. Фуко пишет о человеке как модерной эпистеме (l’épistémè moderne)2, то есть о трансцендентальной структуре знания, а не о каком бы то ни было существе. Эта структура принадлежит порядку знания, а не порядку вещей. «Речь идет здесь не о сущности человека вообще, но просто о том историческом априори, которое с начала XIX века очевидным образом служит почвою нашей мысли» [Фуко, 1994: 364]. Человек не принадлежит никакой конкретной концепции (субъекта, личности…) и начиная с начала XIX века обуславливает каждую.
На письме Фуко одним и тем же словом обозначал оба уровня. Во избежание путаницы, человек как эпистема будет писаться здесь с прописной буквы: Человек. (В цитатах русского перевода «Слов и вещей» останется оригинальное написание со строчной буквы.) Тогда «смерть человека» — это смерть Человека.
Фуко описывает эту археологическую перемену так: гораздо меньше, чем исчезновение существующих людей, и намного больше, чем просто изменение понятия. При смене эпистемы меняется не только знание, но и способ бытия существа, которое мы привыкли называть человеком, так как, вопреки ироничному «Слова и вещи», исторически меняющиеся «слова» способны менять способы существования «вещей». Быть человеком значит на основании того или иного знания понимать (практиковать или исполнять) собственную природу и место в мире, а также мыслить и вести себя исходя из них. Сегодня естественнонаучные дискурсы играют в этом (само)понимании преобладающую роль. Как предполагает Фуко, в основании такого знания с начала XIX века лежит Человек как эпистема.
Далее последует разбор структуры тезиса о смерти Человека и обсуждение того, состоялась ли она. Мы будем ориентироваться на следующие вопросы: что такое Человек и как эта конструкция работает? Какие слабые места есть у позиции Фуко по поводу смерти Человека? Сохраняет ли свою актуальность модерная эпистема?
1. Контекст
Тезис о смерти Человека, как и структура Человека, детально обсуждаются Фуко в книге «Слова и вещи» (начало работы над ней — 1963 год, публикация — 1966 год). Однако ее основные «антропологические» сюжеты складывались раньше, в течение предшествующего десятилетия [Elden, 2023: 79]. Во-первых, в лекциях по антропологии под условным названием «Познание человека и трансцендентальная рефлексия», которые читались в Университете Лилля и в Эколь Нормаль в первой половине 1950-х годов [Sforzini, 2020].
Во-вторых, во «Введении к антропологии Канта» (1959–1960 годы, публикация — 2008 год) [Foucault, 2008a; Foucault, 2008b]. Это часть дополнительной диссертации Фуко, представлявшая собой обширный комментарий к «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) Канта. Именно в этой работе Канта, по мнению Фуко, содержится прообраз Человека и антропологии. Историзация человека, его привязка к знанию, тематизация человека на уровне его мира, а не через отношение с трансцендентным, переход к априори существования и трансцендентализация эмпирического — эти идеи, выделенные Фуко у Канта, перейдут в «Слова и вещи» и станут основой Человека. В конце комментария впервые появляется обсуждаемый здесь тезис — в связке со знаменитым тезисом Ницше: «ведь разве не смерть Бога <…> есть в то же время причина смерти человека?» [Foucault, 2008b: 124].
Можно говорить о двойном влиянии на Фуко Ницше и Канта, причем это влияние, меняясь, сохранится вплоть до последних работ философа. Такой синтез сложился под влиянием исследований научного руководителя Фуко Жана Ипполита, труда Жюля Вюйемена «Кантовское наследие и коперниканская революция» (1954), а также работы Хайдеггера «Кант и проблема метафизики» (1929, переведена на французский в 1953) [Sluga, 2005]. С Хайдеггером ранний Фуко разделяет онтологический трансцендентализм, понимание истории и признание того, что знание и наука стали главными детерминантами существования.
Исследование Фуко отчасти принадлежит волне антигуманизма, которая последовала за послевоенным периодом популярности экзистенциализма. В Германии, например, ее возвестило «Письмо о гуманизме» Мартина Хайдеггера, во Франции она была связана во многом со структуралистской критикой и со столь разными фигурами, как Клод Леви-Стросс, Луи Альтюссер, Жак Лакан, Морис Бланшо, Фернан Бродель. Антигуманизм, как отмечает Беатрис Хан, предполагал отказ от первичности человека в качестве эпистемологической точки отсчета или практического актора [Han-Pile, 2010: 119]. В нем подчеркивалась роль досознательных структур в детерминации мышления и поведения, будь то бессознательное, структурированное языком, сверхдетерминация или история. Хотя критика гуманизма отнюдь не была темой первой важности для Фуко, он на протяжении всей своей карьеры упрекал гуманизм в эссенциализации и натурализации человека и вытекающей из них универсализации определенной модели этики [см., напр.: Фуко, 2005: 294]. Напротив, общая задача Фуко — понять, кто мы в контингентном настоящем.
Человек реконструируется Фуко в рамках археологического метода. Археология — это история того, что делает необходимыми определенные формы мысли. Это вопрошание об исторически изменчивых условиях возможности знания [Фуко, 1994: 34–35]. Археология — попытка прорваться через находящиеся на «поверхности» истории корпусы знания к обусловливающим их бессознательным структурам, эпистемам. Это неконвенциональная и дискретная история знания, опирающаяся на анализ дискурсов. Эпистема не образует дополнительного к дискурсам онтологического уровня: она реконструируется ретроспективно, когда археологический метод выявляет структуры дискурсов. Эпистема — исторически специфическая система норм и отношений бытия и языка3, то есть историческое априори. Она играет роль трансцендентальной структуры по отношению к знанию в конкретный период4. Фуко обсуждает три примера эпистем — ренессансная (XVI век), классическая (XVII–XVIII века) и модерная (с рубежа XVIII и XIX веков). Человек — имя модерной эпистемы. Почему происходит смена эпистем и каково их происхождение, Фуко не объясняет, лишь описывая произошедшие изменения.
Археологический подход не только выявляет исторически специфические эпистемы, но и высвечивает их преходящий характер, лишая внеисторичности, фундаментальности и универсальности практики и формы знания. Однажды Человек был изобретен и однажды исчезнет. Философия, таким образом, уже не о вечном, универсальном и предельном: она является анализом и диагностикой настоящего в историческом контексте (позднее эта идея приобретет у Фуко форму критической онтологии настоящего, а фокус сместится с дискурсов на практики).
К ограничениям археологического подхода можно отнести то, что с его помощью затруднительно исследовать проблематику свободы — впрочем, на этом этапе она не интересует Фуко. В его построениях ничего не говорится о том, как практически реализовывались и реализовывались ли концепции человека, основанные на Человеке: археологический подход оставляет нас на уровне дискурса и игнорирует недискурсивные практики и отношения между дискурсивным и недискурсивным. Де Бовуар в связи с этим упрекала Фуко в том, что он игнорирует практику, человека, бедность и несчастье в пользу систем [Elden, 2023: 83–84].
2. Рождение Человека
Точка отсчета существования Человека — не в текстах гуманистических авторов Возрождения вроде Рабле или Пико Делла Мирандолы и не в классическом рационализме, а на рубеже XVIII–XIX веков. Классический рационализм и ренессансный гуманизм уже ставили человека в центр порядка бытия, однако на их археологическом уровне Человека еще не было [Фуко, 1994: 330, 332]. Речь в них не шла о собственной истине человека — как правило, ее подменяли истина Бога и дискурс падения и спасения.
Вместе с Человеком появляются и выстроенные в соответствии с ним модерные философии человека и науки о человеке. Эти концепции объединяет то, что истина человека отправляется от его конечности, идею которой разрабатывал в «Критике чистого разума» Кант. Отсюда важность немецкого философа в качестве открывателя возможности антропологии.
Можно выделить два типа конечности: эмпирическую и трансцендентальную [Han, 2003: 125, 127]. Эмпирическая конечность человека существовала в философии и до Канта. Она онтологически определялась на фоне бесконечности (Бог, абсолют, природа и т.д.), понятие которой мыслилось как фундаментальное и центральное. Поэтому эмпирическая конечность носила апостериорный и негативный характер: она давалась в опыте и определялась через отсутствие или нехватку бесконечного. Противостоящую ей трансцендентальную конечность вводит в игру Кант.
Человек, считает Фуко, намечается в коперниканском перевороте Канта. В этом повороте происходит переход от представления, главенствовавшего в предшествующую классическую эпоху, к представляющему субъекту (способности представления) по ту сторону представления. Теперь этот субъект и эта способность становятся проблемой. Кант предполагал, что чтобы обеспечить достоверность эмпирического знания и отразить угрозу скептицизма, необходимо обратиться к производству представлений, в частности, к априорным трансцендентальным структурам, очерчивающим поле любого возможного опыта (область эмпирического). «Докритический анализ того, что есть человек по своей сути, становится аналитикой того, что вообще может быть дано человеческому опыту» [Фуко, 1994: 362], любых позитивностей. Этот переход означал, что само бытие представляющего не принадлежит порядку представления: трансцендентальное и эмпирическое составляют оппозицию и не должны смешиваться.
Обратившись к трансцендентальному уровню, Кант превратил конечность из эмпирической в трансцендентальную (универсальная и необходимая организация способностей). Это означает, что познание ограничено не извне, а изнутри — трансцендентальными структурами, которые как условия возможности отвечают на вопрос, как возможно познание или бытие. Теперь конечность понимается априорно и позитивно — как основание пределов возможного опыта и свободы. Она освобождается из плена бесконечности и отныне основывается на себе самой, а не на бесконечном. «Наша культура переступила порог ощутимой нами современности (модерности. — А.П.) в тот самый момент, когда конечность человеческого бытия стала мыслиться в непрерывном соотнесении с самой собою» [там же: 339]; [см. также: Делез, 1998: 163–164]. Рождение трансцендентальной конечности, противостоящей эмпирической, — первый шаг антропологического поворота.
Второй шаг этого поворота — смешение трансцендентальной и эмпирической конечностей, то есть предательство Кантом трех критик. Впервые такое смешение происходит в «Антропологии с прагматической точки зрения» самого Канта, в которой поднимается вопрос о том, как человек в качестве свободного существа формирует себя. Кант здесь, считает Фуко, совершает переход от априори знания к априори существования, которое всегда уже наличествует в эмпирическом порядке [Foucault, 2008b: 67]. То есть уровни смешиваются: отдельная эпистемическая область трансцендентального схлопывается, и трансцендентализируется уже эмпирическое. Формы знания при этом, будучи погружены в эмпирическое, приобретают историческое измерение. Человек — и одно из эмпирических существ, и трансцендентальный источник эмпирического поля [см. подробнее: Han, 2002: 17–37].
Одновременно формируются науки о человеке, усваивающие эту конструкцию [Фуко, 1994: 269, 402]: трансцендентальное теперь ищут в эмпирическом поле. Эмпирическое становится априорным, тем, что всегда уже присутствует и детерминирует. Если у Канта трансцендентальная конечность предполагала «внутренние» и неэмпирические трансцендентальные структуры познания, то в знании модерной эпистемы, смешивающем в себе эмпирическую и трансцендентальную конечности, эти структуры задаются через предметность наук о человеке.
3. Науки о человеке
Науки о человеке, или гуманитарные науки5, рождаются одновременно с модерной эпистемой, Человеком [см. подробнее: Gutting, 1989: 186–194]6. В их рамке действия человека становятся знаками, отсылающими к скрытым реалиям, которые эти эмпирические науки изучают. Эти знаки требуют расшифровки, чтобы раскрыть, разоблачить «природу» человека и объяснить ею действия. «Этот квазитрансцендентальный путь всегда дается как “разоблачение”; именно в ходе этого “разоблачения” гуманитарные науки только и могут достичь обобщения или утончения — вплоть до возможности помыслить индивидуальные явления. В горизонте всякой гуманитарной науки лежит проект сведения человеческого сознания к его реальным первоусловиям, возвращения его к тем формам и содержаниям, которые его породили, а теперь скрываются в нем» [Фуко, 1994: 383].
Для этого науки о человеке (литературоведение, социология и психология) задействуют филологию, экономику и биологию, становясь их «двойниками» [там же: 374]. Это смещение часто упускается из внимания. Предметы наук о человеке — уже не столько язык (в том числе речь, грамматические структуры), труд (в том числе производство) и жизнь (живые организмы) сами по себе или как часть природы, сколько эти инстанции в соотнесении с познающим и познаваемым субъектом, трансцендентально-эмпирическим дублетом. То есть с тем, «каким образом человек может быть связан в своем бытии с вещами, которые он познает, и познавать вещи, которые определяют своей позитивностью способ его бытия» [там же: 373]. Словом, модерные гуманитарные науки опираются на конечность человека.
Например, в случае жизни речь пойдет не о живом организме вообще, а о таком о живом организме в той мере, в какой он, принадлежа и определяясь органической жизнью, строит изнутри нее представления о ее устройстве и функциях, понимает через них телесность своего бытия и нормализует ее. Так воспроизводится трансцендентально-эмпирическое удвоение. Эта органическая жизнь может заключаться, к примеру, в мозге — об этом речь пойдет в восьмой части статьи.
В науках о человеке мир лишается трансцендентного начала и перестает пониматься как место грехопадения человека и воздействия Бога. Человек тематизируется на уровне его мира. По ту сторону представлений обнаруживается говорящий, трудящийся и живущий субъект. Язык, труд и жизнь опосредуют для индивида встречу с вещами и самим собой, выступая трансцендентальным, которое находится вне сознания. Однако они непрозрачны, уже не «освещаются светом бесконечного понимания», как то было в классическую эпоху. Эти слабо контролируемые инстанции предшествуют человеку и обнаруживаются им как всегда-уже наличные. Например, мы не можем изменить структуру и функционирование своего мозга. Едва способны менять характер труда, на который обречены.
«О том, что человек конечен, мы узнаем, изучая анатомию мозга, механизмы издержек производства или систему индоевропейского спряжения» [там же: 335]. Уже затем из этой встречи с эмпирической конечностью конституируется собственная, или «внутренняя», трансцендентальная конечность Человека. Это и есть аналитика конечности — разработка идеи, что собственные ограничения человека являются основанием его автономии, то есть это выявление возможности эмпирико-трансцендентального удвоения. Условия возможности опыта теперь ищутся в условиях возможности объекта и его существования, а условия возможности объекта, данного в опыте, отождествляются с условиями возможности опыта как такового. Позитивность наук о человеке, таким образом, сцеплена с трансцендентальной философией, и обе — продукт модерной эпистемы.
Науки о человеке занимают пространство между науками (филологией, экономикой, биологией) с их позитивностью и тем фундаментальным, что делает их возможным, и в бытии человека (речью, желанием и телом, или смертью). Это гуманитарное пространство, где науки о человеке пересекаются и интерпретируются друг через друга, организуется базовыми категориями: значение и система, конфликт и правило, функции и норма [там же: 376–381]. Дисциплины обмениваются разнообразными моделями (понимание VS объяснение, синхрония VS диахрония) или навязывают их друг другу. Науки о человеке стремятся захватить проблемные области, закрепленные за философией, и для этого субстанциализируют язык, труд и жизнь, наделяя их самостоятельным существованием, а философия, в свою очередь, обвиняет эти науки в наивном реализме. В отличие от нее они обходят область сознания.
Здесь рождаются лингвоцентризм, экономизм, историцизм, социологизм, биологизм, психологизм и т.д., претендующие на вскрытие тайно детерминирующих человека и общество сил. Человека делает человеком то, что им не является. «Трансцендентальный взлет, оборачивающийся “разоблачением” неосознанного, — это основополагающий акт всех наук о человеке» [там же: 383]. Словом, в этих науках язык, труд и жизнь разоблачаются как скрытые первоусловия мышления и существования, но одновременно они являются продуктами научного познания индивида.
Эта связь проявляется, например, в специфической рефлексивности социальных наук по поводу скрывающей себя социальной обусловленности работы и предметности исследователей. Последние и рефлексивно борются с этой обусловленностью, и производят социальное как свой предмет.
4. Аспекты детерминирующих инстанций
У языка, труда и жизни есть аспекты, повторяющие базовое удвоение позитивного и фундаментального. В этих удвоениях Человек — одновременно автономный субъект, источник смыслов и законов, делающий возможным нечто, и подчиненный объект, чью автономию это нечто отрицает.
Первый аспект — уже упоминавшееся трансцендентально-эмпирическое удвоение. Оно предполагает, что Человек конституирует мир эмпирических объектов, но одновременно сам является одним из них и производится ими. В трансцендентально-эмпирическом удвоении есть необходимость. Если свести Человека к эмпирическому, то невозможно объяснить возможность знания (Человек не сводится к объекту природы, так как у него есть трансцендентальная перспектива), а если сосредоточиться на трансцендентальном, то не получится учредить научную объективность и объяснить смутность и обусловленность человеческой природы немыслимой. Необходимо ориентироваться на обе стратегии.
Второй аспект — связь cogito и немыслимого. Человек находится в странных отношениях со своим существованием, действием и мышлением, поскольку они опираются на немыслимое как свое условие возможности: это тело, недоступное полностью мысли, потребности и желания, которые он едва контролирует, и язык, которым он не управляет. Немыслимое — «это и тень, отбрасываемая человеком, вступающим в область познания, это и слепое пятно, вокруг которого только и можно строить познание» [Фуко, 1994: 347].
«Человек и не может даваться в непосредственной державной прозрачности cogito» [там же: 344]. Cogito мутирует: теперь это не прозрение, что мысль — это мысль, а вопрошание, как мысль может быть несамотождественной, быть «под видом немыслимого», сочленяться с ним. Учреждается разрыв между «я мыслю» и «я существую». В этом зазоре Человек отныне — «место непонимания». Речь уже «не о возможности познания, но о возможности первоначального непонимания» [там же: 344].
Философия обнаруживает в человеке аспекты существования, недоступные рефлексии, поэтому требуется взгляд со стороны — точка зрения наук о человеке. Человек становится предметом эмпирического исследования, которое имеет дело с его «теневым миром» — скрытыми досознательными механизмами, воплощенными в языке, труде и жизни и изучаемыми науками о человеке. Бессознательное немецких философов, в-себе феноменологии Гегеля, отчужденный человек Маркса — примеры немыслимого в философии.
Человек может вернуться к своей истине, примириться со своей сущностью только через немыслимое, обратив его — правда не до конца — из «в себе» в «для себя». Тогда гуманитарная наука или философия в модерной эпистеме не может не изменять бытие того, что познает: она уже не есть только созерцание. Будучи обращенной к немыслимому, она не может не быть действием и практикой, «не может не освобождать и не порабощать» [там же: 349]. Деятельность человека получает объяснение, но только для того, чтобы определить поле действия. Эти объяснения носят инструментальный и преходящий характер. Теория обнаруживает трансформативность: адресуется к человеку и призывает его, теперь оснащенного знанием, измениться и действовать (особенно это наглядно в случае марксизма).
Третий аспект — отступление и возврат первоначала. С одной стороны, Человек всегда-уже в своем существовании определен языком, трудом и жизнью, история которых началась задолго до него и которые являются источником его познания и бытия. Их первоначало — в непроглядной глубине времени. Труд, совершаемый многие тысячелетия, жизнь, идущая от первых органических соединений, слова, которые древнее всякой памяти [там же: 351]. Они детерминируют Человека, создавая и ограничивая его опыт, но принадлежат другому времени, а потому Человек — не современник своего существования.
С другой стороны, Человек — не «зарубка, отмечающая момент в длительности», а «открытость, исходя из которой только и может строиться время, изливаться длительность, а в должный черед — возникать и сами вещи» [там же: 353]. Таков антропологический парадокс всегда-уже — другая сторона парадоксальности трансцендентально-эмпирического удвоения. В эмпирическом плане язык, труд и жизнь предшествуют, но за счет своей трансцендентальной функции и опыта Человек предшествует предшествованию вещей. Сама история вещей возможна только на основе изначальной временности Человека. Он является временем, но именно оно отделяет его от его собственного первоначала. С этой трудностью сталкивались, например, философии, стремившиеся разрешить эмпирико-трансцендентальный дуализм путем тематизации человека как исторического существа (с одной стороны, Гегель и Маркс, с другой — Хайдеггер и Ницше).
Вместе с удвоением позитивного и фундаментального эти три аспекта языка, труда и жизни составляют четырехугольник, который размечает модерную эпистему и конечное бытие Человека.
Наряду с науками о человеке модерной эпистеме принадлежали весьма разные и зачастую несовместимые философии [см. также: Gutting, 1989: 200–203]. Редукции трансцендентального к эмпирическому соответствовала связка позитивизма и эсхатологизма [Фуко, 1994: 342] (от натуралистических редукционистских теорий человеческой природы до Конта и Маркса). Позитивизм основывал философскую истину на эмпирической истине, а эсхатологизм — эмпирическую истину на философской. В этом случае торжествовала докритическая наивность и затруднительно было объяснить возможность знания. Попытке удержать и трансцендентальное, и эмпирическое, но сохраняя разницу между ними, соответствовала феноменология Гуссерля, Мерло-Понти и Сартра. Однако, по Фуко, обе стартовые точки анализа переживаний — тело и культура — принадлежат эмпирическому, поэтому человек здесь понимается как эмпирический7. Это значит, что феноменология, по сути, является таким же редукционистским проектом, как, например, марксизм. Из этого Фуко делает вывод, что если науки о человеке справились с усвоением Человека как трансцендентально-эмпирического удвоения, то философия провалилась.
5. Парадокс модерной эпистемы
Из изложенного выше вырисовывается парадоксальность модерной эпистемы. Хотя язык, труд и жизнь независимы от человека в своем существовании, в качестве позитивностей они открываются только при условии трансцендентального раскрытия человеческого опыта. Таким образом, эмпирическая конечность возможна только при условии трансцендентальной конечности (эпистемическая детерминация). Но сам опыт возможен только на основе эмпирической конечности как эмпирически опосредованный трудом, языком и жизнью (причинная связь) — трансценденталиями вне сознания. Таким образом, в Человеке происходит смешение двух конечностей, а эпистемическая детерминация смешивается с причинным воздействием. Эмпирическая конечность рождается внутри трансцендентальной. Язык, труд и жизнь являются условиями и одновременно содержанием представлений. Отсюда конфликт трансцендентальной философии и эмпирических наук, конститутивный для европейской мысли с XIX века8. Коперниканский переворот здесь становится порочным кругом, бесконечным колебанием между двумя типами конечности, эмпирическим и трансцендентальным — колебанием, в котором у философии нет ясной стартовой точки [Han, 2003: 129].
Отношение эмпирического и трансцендентального в Человеке порождает проблему конечности, которая находится в центре внимания Фуко, хотя и не становится главной темой и ставкой, как в случае фундаментальной онтологии Хайдеггера [McQuillan, 2016: 191]. Напротив, он считает, что преодоление проблемы конечности — благо. Ее исчезновение — смерть Человека.
6. Человек умирает, мы просыпаемся
Колебание между полюсами удвоения обеспечивает устойчивость всей конструкции Человека. Преодолеть ее можно, только если поставить под вопрос существование Человека и отбросить саму модерную эпистему, разрушив антропологический четырехугольник. Сделать это — значит пробудиться от антропологического сна.
Эта идея впервые появляется в конце 1950-х годов во «Введении к антропологии Канта», но называется антропологической иллюзией [Foucault, 2008b: 124]. В этой работе Фуко пишет, что «критика конечности будет освобождающей как по отношению к человеку, так и по отношению к бесконечному, она покажет, что конечность — не конец, а тот изгиб и узел во времени, когда конец — это начало» [ibid.: 124].
В «Словах и вещах» уже появляется термин «антропологический сон» — по аналогии с догматическим сном, от которого от которого Кант пробудился благодаря Юму, совершив затем трансцендентальный поворот. Но после Канта (отчасти вопреки, отчасти благодаря ему) «философия вновь погружается в сон — только уже не Догматизма, а Антропологии» [Фуко, 1994: 362]. Теперь сон связан с двойным догматизмом, который обусловлен разобранным выше смешением: с одной стороны, докритический анализ сущности человека, с другой — аналитика того, что может быть дано в человеческом опыте, любых эмпирических позитивностей [там же: 362].
Что будет после смерти Человека и пробуждения? Как замечает Делез, «это проблема, в подходе к которой мы вынуждены довольствоваться весьма скромными замечаниями, в духе комиксов» [Делез, 1998: 169]9. По меньшей мере можно предположить, что Человек исчезнет, когда в некоторой следующей за модерной эпистеме схлопнется или потеряет значимость пространство по ту сторону представления.
С одной стороны, Фуко связывает будущее с языком. Это либо открытая Ницше рефлексия бытия языка как более фундаментального, чем бытие человека, либо при новой эпистеме сформируется понимание языка в духе Малларме, при котором человек просто исчезнет [Фуко, 1994: 327–328]. С другой — возможный путь выхода из посткантовской эпистемы Фуко видит в наследии Ницше, который через «филологическую критику» и «биологизм особого рода» [там же: 362] пришел к «смерти Бога» как «смерти человека» и обозначил порог, за которым наконец способна начать мыслить современная философия. «В наши дни мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже нет человека», — загадочно пишет Фуко [там же: 362]. Однако далее он эту тему не развивает и противопоставляет Человеку лишь «безмолвный смех».
Прошло более полувека. Появилась ли с 1966 года альтернативная Человеку эпистема — по крайней мере, если оставаться в рамках археологического метода? Ответ на этот вопрос не входит в задачи этой статьи. Нас скорее заботит вопрос о том, действительно ли Человек умер.
7. Критические замечания
Во-первых, Фуко колеблется между описательными и нормативными суждениями [Fraser, 1996: 18], при этом описательные недостаточны для ряда выдвигаемых тезисов, а нормативность ничем не обосновывается. Например, ничто в «Словах и вещах» не доказывает, что антропологический поворот был неизбежен и необходим — утверждается только, что он фактически случился. Но факты не могут подкреплять утверждения о необходимости.
Еще один пример: в тезисе о смерти Человека есть неувязка. С одной стороны, Фуко в соответствии с идеалом нейтральности археологического подхода претендует на нейтральную фиксацию этого грядущего события как факта. С другой — никак не обосновывает свою убежденность в неминуемости исчезновения Человека. Он в нормативном ключе дает оценку этому факту и приветствует его, нарушая тем самым нейтральность. Если на кону стоит не просто эпистемическое изменение, а что-то большее, то что именно? Об этом Фуко не говорит.
Какое ненатурализирующее и нефундаменталистское обоснование Фуко дает ценностям, на которые опирается его проект? По сути, никакого — по-видимому, он считает, что ценности самоочевидны и не требуют обоснования, указывает Нэнси Фрейзер [ibid.: 24]. Это ведет к тому, что Фуко не обосновывает нормативные утверждения (смерть Человека — это хорошо), не строит моральную теорию при явно моральных суждениях.
Однако нет никакой необходимости принимать оценочную позицию Фуко, что аналитика конечности с ее трансцендентально-эмпирическим удвоением обязательно пагубна. Вместе с этим необязательно принимать и связанную с этой оценкой критику разного рода гуманистических проектов и антропологий. Они вполне могут опираться на аналитику конечности, но осознавать ее ошибки и удерживать различие эмпирического и трансцендентального. По мнению Хан, примером такого гуманизма является ранняя феноменология Сартра [Han-Pile, 2010: 131].
Во-вторых, не прояснены отношения между цепочкой эпистем и историей и отношения между эпистемами. Могут ли они сосуществовать, к примеру, будучи разнесены по разным типам знания или же при рождении новой эпистемы старая полностью исчезает? В «Словах и вещах» Фуко никак не обосновывает тотальность влияния эпистемы на знание определенного периода. Возможны ли, скажем, одновременно с модерной эпистемой иные формы знания помимо антропологического? Здравый смысл подсказывает, что возможны. Например, немалая часть аналитической философии, которая, хотя и полагает язык автономной инстанцией, не связывает его с антропологической проблематикой. Но тогда параллельно с модерной эпистемой существуют и какие-то иные исторические априори, касающиеся как минимум философии. Если мы принимаем эту гипотезу, то смерть Человека теряет однозначность и четкость в качестве разрушения модерной эпистемы и знака рождения новой. Она может быть растянута во времени, так как Человек может продолжать существовать на заднем плане нового исторического априори.
В-третьих, Сартр, считал, что представленный в «Словах и вещах» материал — не археология, поскольку Фуко отрицает историю как открытый процесс, подменяя ее последовательной сменой эпистем, а скорее геология пластов условий возможности мысли, в которой так и не происходит переход к демонстрации того, как условия создают мысль [Elden, 2023: 83–84]. То есть не прописаны механизмы перехода от Человека к концепциям человека (субъекта, личности…), от эпистемы к существующим формам гуманизма и антропологии «на поверхности» истории. Фуко удается показать структурные корреляции, но не генетические отношения. Это затрудняет критику посткантовских философских проектов, на которую философ явно нацеливается.
В-четвертых, Фуко не хватает рефлексивности. Он не проясняет, к какой эпистеме принадлежит сам археологический подход. Однако, замечает Хан, в случае модерной эпистемы археологический метод сталкивается с проблемой самоприменимости [Han-Pile, 2010: 134–135]. Дело в том, что эпистема — в строгом смысле слова не трансцендентальная структура, а историческое априори. В таком случае Человек как эпистема делает возможным эмпирическое измерение конкретного знания, а осуществляемая им эпистемическая детерминация возможна, только если, будучи погружена в историю, причинно обусловлена эмпирическими процессами. То есть эпистема оказывается такой же квазитрансцендентальной структурой, как инстанции языка, труда и жизни. На уровне метода исследования Фуко повторяет то, за что критикует аналитику конечности. По сути, отмечает Хан, археологический проект Фуко оказывается продолжением аналитики конечности и в этом смысле продлевает срок жизни Человека как эпистемы.
8. Смерть Человека сегодня
Состоялась ли смерть Человека? Актуальна ли модерная эпистема сегодня? Фуко считал, что она все еще служит основой познания [Фуко, 1994: 403], но прошло почти 60 лет. На территории философии вопрос об актуальности этого исторического априори остается открытым. С одной стороны, были многочисленные попытки детрансцендентализации и избавления от «антропоцентризма». С другой стороны, постановка проблемы корреляционизма как воплощения дисциплинарного здравого смысла в начале XXI века скорее свидетельствует о том, что Человек жив. Но эта дискуссия касается только части философии, ведь есть, например, аналитические течения, где Человек скорее всего и не рождался. Эти перипетии — предмет самостоятельного исследования.
Здесь же мы хотели бы обратить внимание на нефилософские эмпирические концепции субъекта, которые часто ускользают от внимания философов. Они имеют естественнонаучное происхождение. Однако эти концепции, реконструируемые историками и социологами науки на эмпирическом материале, живут за пределами университетов и исследовательских институтов, а также самих теорий. Они циркулируют в социальном пространстве. Формируемые ими представления о субъекте воплощаются в публичной репрезентации результатов естественных наук и их обещаниях, в научно-популярных дискурсах и в масс-культурных продуктах (особенно в кино), в популярной селф-хелп литературе и т.д. Они претендуют на открытие истинной природы человека и даже общества, на объяснение и изменение морали, политики и культурных установлений. Их ядро — тезис о значительной обусловленности личности или даже ее тождестве с функционированием натуралистического объекта — генов, мозга или иммунитета.
Мы сосредоточимся на идее церебрального субъекта, делающей ставку на мозг. Концепция церебрального субъекта была предложена историками и социологами науки Фернандо Видалем и Франсиско Ортегой. Она обнаруживается в современных дискурсах (от нейроэкономики и нейроэстетики до селф-хелп) и практиках (от коучинга и нейромаркетинга до нейроцевтики и нейробики), которые опираются на натурализирующую и эссенциализирующую идею, что мы — это наш мозг [Vidal, Ortega, 2017; Видаль, 2020; Писарев, 2018]. Человек — церебральный субъект, потому что не просто обладает мозгом, а им и является. В центре внимания этих опирающихся на нейронаучное знание и авторитет дискурсов и практик — то, как мозг обусловливает наше поведение, восприятие и мышление.
Идея церебрального субъекта формировалась со второй половины XVIII века [Видаль, 2020: 219–223; Vidal, Ortega, 2017: 13–57], то есть параллельно модерной эпистеме Фуко. Она значительно усилилась благодаря революции в способах визуализации деятельности мозга и впечатляющему прогрессу нейронауки в 1980—1990-е годы. Тогда вокруг исследований мозга возникла шумиха, расцвели разного рода нейродискурсы и нейропрактики. Нейрохайп и громкие обещания нейроученых и администраторов от науки зачастую оказывались и оказываются сильнее критического мышления даже в случае тех индивидов, которые хорошо знакомы с ограничениями исследований мозга, что навело исследователей на мысль о специфическом нейроочаровании [Ali, Lifshitz, Raz, 2014]. Вдобавок связка личности и мозга не всегда используется добросовестно. К примеру, добавление к названию нейро- и отсылка к авторитету нейронауки — эффективная уловка маркетинга и самолегитимации.
Сегодня церебральный субъект — наиболее популярный и распространенный в западном обществе дискурс о природе человека. Это позволяет Видалю и Ортеге говорить о нейрологизации культуры и человека. При этом церебральный субъект преподносится как единственно верная, объективная версия природы человека. Имеет ли она что-либо общее с модерной эпистемой?
Во-первых, церебральный субъект является трансцендентально-эмпирическим удвоением и задает специфическую науку о человеке. В его основе — редукция личности к мозгу. Не мозг сам по себе как часть природы, а складка мозга и личности, человека. С критической точки зрения, одна сторона этой складки — предмет и продукт нейронауки, другая — условие и субъект нейронаучного познания этого предмета. То есть мозг как эмпирический объект определяет человеческий познавательный аппарат (эмпирическая причинность), который, в свою очередь, является условием эмпирического поля и мозга в частности (эпистемическая детерминация). В недрах церебрального субъекта мы сталкиваемся с парадоксом, свойственным трансцендентально-эмпирическому удвоению. Церебральный дискурс соединяет нейронауку и это удвоение, образуя специфический извод первой — нейроверсию науки о человеке.
Во-вторых, в церебральных дискурсах проявления человека трактуются как знаки, отсылающие к скрытому, недоступному для cogito измерению мозга. Оно «разоблачается» как подлинная реальность и «теневой мир» мышления и поведения. Мозг — настоящий субъект научного и художественного познания, социального поведения, морали, политических пристрастий и т.д. Эта идея выражается помимо прочего в заголовках научно-популярных книг и лекций: в них мозг обучается, принимает решения, мешает бороться с соблазнами, обманывает нас, влюбляется, тревожится и т.д. Понять и принять эту субъектность значит избавиться от ложного сознания, пелены идеологий, порождаемых альтернативными объяснениями проявлений человека. Дискурс церебрального субъекта натурализирует этику, политическую жизнь, социальность, эстетику и т.д. Таким образом он присваивает проблематику философии и социальных наук. Дисциплины переопределяют свою предметность и методы на основе результатов нейронаук — так возникают нейросоциология, нейроэкономика, нейрофилософия, нейроэстетика и т.д.
В-третьих, мозг как природный объект старше человечества и эволюционирует с незапамятных времен. Вместе с тем человек, определяемый мозгом, является условием написания истории эволюции и в целом условием эмпирического времени. Структура церебрального субъекта и на этом уровне воспроизводит парадокс трансцендентально-эмпирического устройства Человека.
В-четвертых, дискурс церебрального субъекта трансформативен. Деятельность человека не просто получает объяснение в деятельности мозга: человека призывают к активному изменению себя. Добиться эффективности, успеха, благой жизни, моральности и даже более справедливого устройства общества можно, если начать вести себя и мыслить в соответствии со своей церебральной природой. Для этого из фактов о функционировании мозга выводятся нормативные представления о морали, управлении, политике, психике (например, об интеллектуальных и иных способностях полов10, отдельных социальных и этнических групп). Как и науки о человеке, обсуждаемые Фуко, дискурс церебрального субъекта использует категории функции и нормы и опирается на отделение нормального функционирования мозга от ненормального. Поскольку в рамках концепции церебрального субъекта знания о природе считаются объективными, а сама природа независимой от познания, эти многообразные нормативные представления предъявляются как безальтернативные и необходимые.
При выводе этих представлений совершается натуралистическая ошибка — некорректное умозаключение, поскольку из дескриптивных суждений нельзя вывести прескриптивные суждения, из суждений о фактах — суждения о должном. Никаких принципиально новых нормативных представлений при таком выводе не изобретается. Здесь совершается двойной ход: сначала конкретные существующие нормы, представления и ценности общества контрабандой протаскиваются в область природы, а затем «выводятся» из нее. Тем самым они легитимируются авторитетом науки и апелляцией к природе11.
В-пятых, в церебральных дискурсах, особенно в публичной коммуникации науки и в кино, нередко дают громкие обещания. Обещают, что исчерпывающее познание мозга приведет к познанию устройства психики, культуры и общества12, разрешению их проблем и противоречий. То есть философская истина основывается на эмпирической. Совпадение человека со своей природой позволяет в одних версиях достичь утопии. В других — антиутопии. Например, в 2013 году советник проекта BRAIN Initiative заявил, что как только человечество поймет, как устроен мозг, оно произведет переворот в культуре и создаст «новый гуманизм» [Vidal, Ortega, 2017: 6]. В фантастических фильмах исчерпывающее познание мозга может приводить, например, к его оцифровке и переходу жизни в виртуальное пространство или же к тотализации контроля. Таким образом, церебральные дискурсы соединяют позитивизм с эсхатологизмом.
Прослеженные сходства существенны и позволяют осторожно говорить о том, что церебральный субъект принадлежит модерной эпистеме. В таком случае той же эпистеме принадлежат и иные концепции субъекта, которые имеют естественнонаучное происхождение и воплощаются в дискурсах и практиках, циркулирующих в социальном пространстве — генетический субъект, иммунный субъект и др. XIX век продолжается, Человек не умер или умер не до конца.
* * *
Мы прояснили устройство, статус и слабые места Человека в качестве модерной эпистемы, сформировавшейся на рубеже XVIII–XIX веков и обусловившей знание последующего периода. Он имеет трансцендентально-эмпирическую структуру, образующую порочный круг из-за смешения своих полюсов, и лежит в основании гуманитарных наук и ряда философских концепций субъекта, сознания, биосоциального существа и т.д. после Канта.
Если мы в соответствии с археологическим подходом Фуко понимаем тезис о его смерти как знаке прихода новой эпистемы, то полное исчезновение из философии проектов, обусловленных Человеком, — открытый вопрос. Доказательство такого факта является трудной задачей, так как философия эклектична и множественна, в ней сосуществуют разные типы мышления. Неизбежно создание репрезентативной выборки, а это уже связано с оценками, предпочтениями, исключениями.
Если же мы вопреки археологии примем гипотетическую возможность сосуществования разных эпистем (обратное Фуко не доказывает), то смерть Человека теряет свою однозначность в качестве знака рождения новой эпистемы и возможна разве что как постепенный уход модерной эпистемы на задний план. Тогда схема Человека может быть прагматически переинтерпретирована путем извлечения из археологического подхода как одна из возможных в современности и использована как аналитический инструмент без претензий на историческую роль и тотальность. Вполне в духе интенций позднего Фуко: «Я хочу, чтобы мои книги были своего рода ящиком с инструментами, и другие могли бы осматривать его, чтобы подбирать инструмент, который они бы использовали по своему усмотрению в своей области [...] Я пишу не для аудитории, я пишу для пользователей, а не читателей» [Foucault, 2013, 523–524].
Например, постгуманистические подходы, стремящиеся преодолеть так называемый антропоцентризм, могут быть проанализированы на предмет принадлежности к модерной эпистеме, поскольку в своем экспериментировании с моделями субъективности они во многом опираются на критические идеи. Если это так, то воспроизводство Человека делает их уязвимыми перед парадоксами, сформулированными Фуко, и может подрывать их теоретические ставки.
При этом Человек, по-видимому, жив за пределами философии. Как показано на примере конструкции церебрального субъекта, Человек структурирует концепции субъектов, воплощенные в дискурсах и практиках в социальном пространстве. Эти концепции, отсылающие к результатам естественных наук, реконструируются на эмпирическом материале историками и социологами науки. Свойственные этим концепциям натурализация и эссенциализация человека, морали и социальности — едва ли достоинства, поэтому в контексте этого поля трудно не разделять воодушевление Фуко по поводу будущего исчезновения Человека.
1 Употребление в этом контексте понятий «человек» и «субъект» как взаимозаменяемых весьма распространено (особенно часто говорят о «картезианском субъекте» или «классическом субъекте», задаваемом субъект-объектной схемой) [см., напр.: Гаспарян, 2022]. Хотя Фуко действительно иногда использует в «Словах и вещах» термин «субъект», у него он выступает как технический. Речь идет не о смерти субъекта уже потому, что к модерной эпистеме относятся и философии, намеренно избегающие идеи субъекта.
2 Здесь используется термин «модерная», поскольку «современная» (в переводе Н. Автономовой и В. Визгина) слишком сильно ассоциируется с «актуальная» и «последняя на данный момент». Является эта эпистема актуальной или нет — вопрос открытый, в том числе ему и посвящена эта статья.
3 Это самое уязвимое место археологического метода: непроговариваемое онтологическое допущение, что «слова» и «вещи» — разные сущности, обладающие независимыми способами существования и способные вступать в отношения, описываемые эпистемами. Впоследствии в «Археологии знания» Фуко пытался решать эту проблему [см.: Han, 2002: 52–54].
4 Неслучайно Морис Клавель, оказавший значимое влияние на Фуко, в 1975 году назвал книгу «критикой чистого разума нашего времени» [Elden, 2023: 85–86].
5 В «Словах и вещах» Фуко также анализирует психоанализ и этнологию. Он называет их контрнауками, поскольку они раскапывают основание, на котором покоятся науки о человеке, и подрывают их. Они не строят концепцию человека и не принимают его в качестве фундаментальной категории. Поэтому их развитие — симптом приближения смерти Человека.
6 Вписывая науки о человеке в исторически преходящую модерную эпистему, Фуко тем самым оставляет пространство для альтернативного им понимания нами самих себя.
7 Интерпретация феноменологии у Фуко как минимум спорна [см.: Gutting, 1989: 223].
8 Этот конфликт все еще актуален и проявляется, например, в проблеме доисторического, живо обсуждавшейся в последние два десятилетия [см.: Мейясу, 2005: 5–34].
9 Сам Делез предполагал, что после бесконечного (Бога) и конечного (человека) речь должна идти о силе конечно-неограниченного, где конечное число элементов дает неограниченное число комбинаций, например, в генетическом коде и в вычислениях. Новую сущность он связывал с объединением конечного существа с силами генетических составляющих (после перехода к молекулярной биологии) или силами кремния в машинах (после введения в труд вычислительных машин). Здесь фукианская смерть Человека через Делеза смыкается с проблематикой постгуманизма.
10 Дизайн подобных исследований или интерпретация их результатов могут порождать так называемый нейросексизм [см., напр.: Fine, 2008: 69–72].
11 Как показывает Лоррейн Дастон, такой двойной ход особенно характерен для эпохи, которую Фуко связывает с модерной эпистемой [см. подробнее: Daston, 2014].
12 Особенно такие обещания были распространены в первое время после открытия зеркальных нейронов, о которых говорили как об основе социальности. См., например, книгу «Отражаясь в людях: почему мы понимаем друг друга» нейробиолога Марко Якобони, одного из ведущих исследователей зеркальных нейронов [Якобони, 2011].
Авторлар туралы
Alexander Pisarev
RAS Institute of Philosophy
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: alex-pisarev@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4261-1275
Junior Research Fellow of the Department of Social Philosophy
Ресей, 109240, Moscow, 12/1 Goncharnaya Str.Әдебиет тізімі
- Видаль Ф. Церебральность и антропологический тип современности / пер. с англ. А. Долгова // Социология власти. 2020. № 2. С. 208–247.
- Vidal F. Cerebral’nost’ i antropologicheskij tip sovremennosti [Brainhood, Anthropological Figure of Modernity], transl. from English by A. Dolgov. Sociologiya vlasti. 2020. N 2. P. 208–247.
- Гаспарян Д. Смерть субъекта // Большая российская энциклопедия. 30.11.2022 [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/smert-sub-ekta-e0f5d2 (дата обращения: 10.09.2024).
- Gasparyan D. Smert’ sub”ekta [The Death of the Subject]. Bol’shaya rossijskaya enciklopediya [Great Russian Encyclopedia]. 30.11.2022 [Electronic resource]. URL: https://bigenc.ru/c/smert-sub-ekta-e0f5d2 (date of access: 10.09.2024).
- Делез Ж. Фуко / пер. с фр. Е.В. Семиной. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998.
- Deleuze G. Fuko [Foucault], transl. from French by E.V. Semina. Moscow: Izdatel’stvo gumanitarnoj literatury Publ., 1998.
- Круглов А.Н. Был ли у Канта трансцендентальный субъект? // Историко-философский ежегодник. 2004. № 19. С. 279–295.
- Kruglov A.N. Byl li u Kanta transcendental’nyj sub”ekt? [Did Kant have a transcendental subject?]. Istoriko-filosofskij ezhegodnik [History of Philosophy Yearbook]. 2004. N 19. P. 279–295.
- Мейясу К. После конечности: эссе о необходимости контингентности / пер. c фр. Л. Медведевой. Екатеринбург, М.: Кабинетный ученый, 2015.
- Meillassoux Q. Posle konechnosti: esse o neobhodimosti kontingentnosti [After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency], transl. from French by L. Medvedeva. Ekaterinburg, Moscow: Kabinetnyj uchenyj Publ., 2015.
- Писарев А. Пинки и Брейн опять захватывают мир: генеалогия и приключения церебрального субъекта // Логос. 2018. Т. 28, № 5. С. 299–311.
- Pisarev A. Pinki i Brejn opyat’ zahvatyvayut mir: genealogiya i priklyucheniya cerebral’nogo sub”ekta [Pinky and the Brain Take Over the World Again: Genealogy and Adventures of the Cerebral Subject]. Logos. 2018. Vol. 28, N 5. P. 299–311.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994.
- Foucault M. Slova i veshchi. Arheologiya gumanitarnyh nauk [The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences], transl. from French by V.P. Vizgin, N.S. Autonomova. St. Petersburg: A-cad Publ., 1994.
- Фуко М. Истина, власть, самость // Интеллектуалы и власть / пер. с франц. Б.М. Скуратова. Т. 3. Москва: Праксис, 2005. С. 287–296.
- Foucault M. Istina, vlast', samost' [Truth, Power, Self]. Intellektualy i vlast’ [Intellectuals and Power], transl. from French by B.M. Skuratov. Vol. 3. Moscow: Praksis Publ., 2005. P. 287–296.
- Якобони М. Отражаясь в людях: почему мы понимаем друг друга / пер. с англ. Л. Мотылева. М.: Юнайтед Пресс, 2011.
- Iacoboni M. Otrazhayas’ v lyudyah: pochemu my ponimaem drug druga [Mirroring People: The New Science of How We Connect with Others], transl. from English by L. Motylev. Moscow: Yunaited Press Publ., 2011.
- Ali S.S., Lifshitz M., Raz A. Empirical neuroenchantment: from reading minds to thinking critically. Frontiers in Human Neuroscience. 2014. Vol. 8 [Electronic resource]. URL: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00357/full (date of access: 10.09.2024).
- Daston L. The Naturalistic Fallacy Is Modern. Isis. 2014. N 105. P. 579–587.
- Dreyfus H., Rabinow P. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- Elden S. The Archaeology of Foucault. Cambridge: Polity Press, 2023.
- Fine C. Will Working Mothers’ Brains Explode? The Popular New Genre of Neurosexism. Neuroethics. 2008. N 1. P. 69–72.
- Foucault M. Introduction à l’Anthropologie. Paris: Vrin, 2008a.
- Foucault M. Introduction to Kant’s Anthropology. Cambridge, Mass, and London: MIT Press, Semiotext(e), 2008b.
- Foucault M. Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir. Foucault M. Dits et écrits 1954–1988. Vol. II, 1970–1975. Paris: Gallimard, 2013. P. 521–525.
- Fraser N. Michel Foucault: A “Young Conservative”? Feminist Interpretations of Michel Foucault. University Park, PA: Penn University Press, 1996.
- Gutting G. Michel Foucault’s Archaeology of Scientific Reason. Cambridge University Press, 1989.
- Han B. Foucault’s Critical Project. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Han B. Foucault and Heidegger on Kant and Finitude. Foucault and Heidegger: Critical Encounters. London, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
- Han-Pile B. The “Death of Man”: Foucault and Anti-Humanism. Foucault and Philosophy, T. O’Leary, C. Falzon (eds.). Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. P. 118–142.
- McQuillan J.C. Beyond the Analytic of Finitude: Kant, Heidegger, Foucault. Foucault Studies. 2016. N 21. P. 184–199.
- Rose N., Abi-Rached J.M. Neuro: The New Brain Sciences and the Management of the Mind. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- Sforzini A. Foucault and the History of Anthropology: Man, before the ‘Death of Man’. Theory, Culture & Society. 2020. Vol. 40(1–2). P. 37–56.
- Sluga H. Foucault’s Encounter with Heidegger and Nietzsche. The Cambridge Companion to Foucault. New York: Cambridge University Press, 2005. P. 210–239.
- Vidal F., Ortega F. Being Brains: Making the Cerebral Subject. New York: Fordham University Press, 2017.